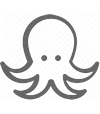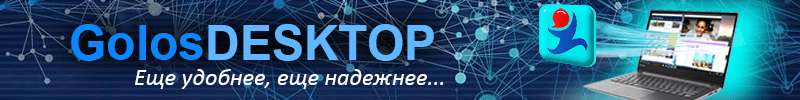_Микеланджело "Сотворение Адама" _
Сегодня много говорят о духовности («духовных скрепах»). Их нехватки и даже отсутствии в современном мире (чаще в политизированных ток-шоу, при гиперкритике западного мира). И это не может не удивлять. Когда информация льётся из «рога изобилия», а материально-символические формы (выражающие «духовные смыслы»), поражают своим многообразием – эти разговоры, на первый взгляд, кажутся бессмысленными. Но это на первый взгляд.
Форма, какой бы изящной не была, без внутреннего Смысла – остаётся пустышкой, симулякром. Знаковый символ вбирает в свою "орбиту" всегда больше, чем он является, как "смысловой знак". В культурном значении он всегда аутентичен религиозному "наблюдателю", вне зависимости от его конфессиональных предпочтений и мировоззрения. Символ - это своеобразная "метка-ориентир" на фундаментальной границе сакрального и профанного миров. Если позволите фигуральность - дорога ведущая в Неизведанное, таинственный Путь или дверь (от образа к Первообразу) указующая на социокультурное табу, теофанию или предупреждение о смертельной опасности. Проблема возникает тогда, когда начинается пошлая игра символами в угоду идеологическим "божкам" и их секулярным атрибутам (в рамках той или иной культуры). Символ - размывается, забазаривается, замутняется и его культурная функция связи-табу (сдержек-противовесов) сводится на нет или обессмысливается. В итоге, получается форма без содержания. С чем нас и поздравляю!
Только человек обладает божественным даром наделять вещи смыслом. Адам не просто давал имена животным, а прозревал их истинную сущность. «Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарёк человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым» (Быт: 2; 19-20). Ключевым аспектом этого интересного фрагмента, на мой взгляд, является прямая связь между «душой живой» и её «именем». Светское религиоведение от этой «точки» и ведёт историю магии, как начального этапа проторелигии.
Но эта «сакральная связь» распространяется не только на «души живые». Творческое начало в творце-человеке наделяет именами и неодушевлённые вещи. Они становятся символами. Духовными символами. Поясню. Для кого- то «Сикстинская Мадонна» духовный символ материнской любви, а для кого- то «баба на портрете». Кто-то видит в иконе «Спас нерукотворный» (имеющей Имя) первообраз изображаемого, а кто-то, стреляя в неё из винтовки, видит простую мишень в тире. Одни люди «видят» духовный смысл в мире физических форм, другие этого не «видят».
Смысл, который мы «вкладываем» в бесконечное разнообразие форм нашего Творца и Творца мира (а также наших человеческих творений) – это то, что всегда идёт от нас. Я уже писал в некоторых из своих ранних работах, что русское слово «смысл» (кажется, не имеющее точных аналогов в западных языках) для определения «духовности» очень удобно. В нем сразу подразумевается и логическое значение, и цель, и оправдание существования, и ценность, и… замысел Бога.
Один из современных мыслителей сказал, что «смысл должен быть найден, но не может быть создан. Создать можно либо субъективный смысл, простое ощущение смысла, либо бессмыслицу». И в этом «адамовом наречении именами» я вижу первый, уникальный пример духовного со-работничества человека Богу. С некоторой натяжкой, позволю сказать, что богословы называют, то о чём я говорю – синергией. Но если концепция синергии говорит о Божественных энергиях, то уникальность «адамового со-работничества», в непосредственном со-участии в завершении творения на одном из его этапов. Да, это уникальный случай и в тоже время, духовный архетип совершенной гармонии в отношениях между Создателем и Его удивительно-трагичном творении, превратившим мир Божий в мир невыносимого злодеяния...