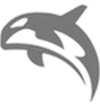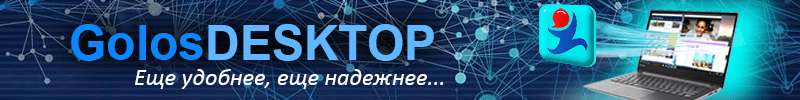Если бы какие-нибудь дальние наши потомки стали судить о послевоенной истории города Воркута только по снимкам Федора Почкина и газетам тех лет, то были бы убеждены в трудной жизни воркутинцев, полной бескорыстного энтузиазма и трудовых свершений.

Вот передо мной подшивка газеты «Заполярная кочегарка» за 1947 год. Первый, январский номер. Передовая статья – о том, какие "большие успехи достигнуты за истекший год" воркутинцами – шахтерами, строителями, транспортниками, металлистами, энергетиками, работниками сельского хозяйства.

Первая школа
"Все они своим самоотверженным трудом способствовали успешному выполнению плана первого года сталинской пятилетки, – рапортует передовица. – Наступил новый 1947 год. По-боевому включимся за выполнение заданий правительства! Сделаем этот год годом новых, еще невиданных побед на пути построения коммунистического общества в нашей стране!".

Первая больница Воркуты
Действительно, в послевоенне годы Воркута, ставшая городом в 1943-м, стремительно росла. Был заложен Бульвар Победы, построены школа-десятилетка, гостиница, деревообрабатывающий завод, стадион «Динамо», кинотеатр «Победа», здание музыкально-драматического театра, мост на Рудник и другие объекты. Вслед за Печорской железной дорогой открылась проводная междугородняя телефонная связь с Москвой. И, конечно, в первую очередь строились новые шахты, открывались угольные месторождения.
Но жила Воркута еще и в другом, как бы потустороннем, мире, о котором говорить и писать не полагалось.
Имя ему было – Воркутлаг. Они, эти параллельные миры, постоянно и плотно пересекались. Строилась шахта – рядом возникал ОЛП (отдельный лагерный пункт). По сути, на любую стройку города-лагеря гнали колонны заключенных.

По сведениям историка Н.Морозова, в тех же 1945-1947 годах в Воркуте были построены 10 новых лаготделений (98 жилых бараков на 10 тысяч заключенных, 72 жилых дома – в том числе 49 кирпичных).
В 1947 году в Воркуте был уже 41 ОЛП, в следующем – 44. Они подразделялись на горняцкие, строительные, ремонтно-механические, сельскохозяйственные и другие.
После войны в Воркутлаг сплошным потоком шло пополнение – к обычным уголовникам и политическим "врагам народа" добавились пленные немцы и бывшие у них в плену красноармейцы, репатрианты, коллаборационисты из власовской армии, повстанцы из Прибалтики и Западной Украины.
Поляки, румыны, венгры, итальянцы, испанцы, французы, чехи, китайцы, греки, турки, иранцы и даже американцы – кого только не было в этом северном лагерном Вавилоне. Если на 1 января 1945 года численность заключенных в Воркутлаге составляла 39711 человек, то через 3 года – уже 62525. Для многих из них, особенно тех, кто попадал в каторжные или штрафные зоны, условия существования были ужасны.

Были в Воркуте, разумеется, и вольные жители – мобилизованные на Север специалисты и их семьи, бывшие лагерники. Работали они в основном на руководящих должностях или в соцкультбыте.
Знал ли обо всем этом фотокорреспондент Федор Почкин, когда снимал воркутинские новостройки, портреты передовиков-стахановцев и пионеров? Конечно, еще как знал!
Из Национального музея Коми нам предоставили справку, добытую краеведом А.Поповым, где приводятся такие сведения: "В деле архивного фонда Воркутинского исправительно-трудового лагеря МВД СССР значится Почкин Федор Иванович, 1902 года рождения, уроженец г. Москва.

Парад в Воркуте
По национальности русский. Социальное происхождение – рабочий. Профессия и специальность – кинопроизводство. Судим 03.03.1934 г. КОГПУ по ст. 58 – 6 сроком на 10 лет. Начало срока 22.11.1933 г., конец срока 22.11.1943 г. Прибыл в Воркутинский ИТЛ 20.04.1938 г. из Ухтпечлага. Освобожден 22.03.1946 (так в документе). Личное дело уничтожено в 1955 году, сведения о реабилитации отсутствуют».
Более подробная информация есть в очерке о Федоре Почкине ученого секретаря Национального музея Валентины Совы. Она пишет, что арестован Почкин был по доносу, "поводом для ареста послужило его участие в посещении творческих мастерских режиссеров документальных и постановочных фильмов Ханжонкова и Юткевича. Юноша, выросший в рабочей семье, грезил стать кинорежиссером. Повод для ареста слушателей был спровоцирован.

В Ухтпечлаге Федору Почкину, очевидно, повезло. Он попал не на общие работы, а был зачислен фото-кинокорреспондентом Ухтпечтреста.
Снимал на кинопленку будущую трассу Северо-Печорской железной дороги, за этот получасовой фильм даже получил премию в 200 рублей и кирзовые сапоги.
Перечисляя много лет спустя в анкете члена Воркутинского клуба ветеранов работы, выполненные им тогда, Федор Иванович упоминал и участие в "съемке полнометражного полуигрового фильма с Ленинградской группой студии хроники "На штурм Ухты". Сценарист М. Вольгина.
Сюжет лагерной перековки в труде заключенного. Фигурой был бывший мариупольский бандит Бригерман, который к моему прибытию в Ухту уже был колонизирован, с ним семья из 4 ребят с женой. Работая зав.кузницей, хорошо поставил производство, работая с уголовниками. В фильм вошла Ухта, Ижма, Воркута, начало строительства узкоколейной железной дороги Воркута — Уса".
В 1935 году Почкина вместе с уже отснятым фильмом "На штурм Ухты" направили на участок отгрузки угля в баржи с Воркуты-Вом в Нарьян-Мар. Он захватил с собой и кинопередвижку. "После нескольких сеансов для грузчиков я передал передвижку бывшему бандюге Якову Рапопорту, который уже демонстрировал фильм по станциям ж.д. и на Воркуте", – писал он в анкете.
Можно себе представить, как реагировали на кинематографическую версию о "перековке" бандита Бригермана заключенные коллеги по его "ремеслу".
Впрочем, Федора Почкина это, возможно, не смущало: "Моя работа – это наглядная агитация", – писал он. А что бы ему еще разрешили снимать тогда?

Судя по тому, что в коллекции Национального музея есть фотографии Федора Почкина, запечатлевшие Инту, Ухту, Кожву, села Усть-Цильма, Тит, Конецбор, поселки Новый Бор, Абезь, железнодорожные станции Воркута, Сивая Маска, Кожва и другие населенные пункты, поездил по республике он немало. Высокий профессионализм его работ очевиден.
Почкину одинаково удавались и пейзажные съемки, и фоторепортажи, и портреты. Тем не менее после освобождения он не сумел найти постоянную работу в Сыктывкаре и был вынужден вновь искать заработок на Крайнем Севере.
С 1947 по 1951 год Федор Почкин работал в Салехарде фотографом на так называемой 501-й железнодорожной стройке – позже она войдет в историю как "Мертвая дорога". В фондах Музейно-выставочного комплекса имени И.С. Шемановского в Салехарде хранится более ста фотографий и негативов Федора Почкина – бесценное свидетельство об этом строительстве.
Скорее всего, Федор Почкин покинул Заполярье и перебрался в Ростов-на-Дону где-то в 1950-е годы. На пенсии он подрабатывал нештатным фотокорреспондентом Ростиздата.
Федора Почкина не стало в 1982 году.