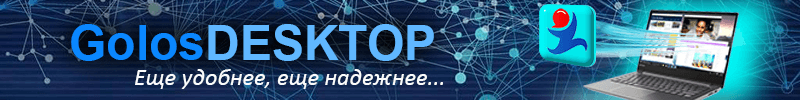Как известно, линейно-историческая "картина бытия" мира, стала актуальной с пришествия Иисуса Христа и христианского эсхатологического ожидания Парусии (второго пришествия Христа). Это стало противопоставлением бывшим циклическим космологиям. Согласно этой логики, человеческая история, только тогда приобретает смысл, когда мы мыслим историю в ее конечности, ибо бесконечная история – бессмыслица. Произошел исторический факт, который "взорвал" мышление человека, отсюда "разрыв" циклической, более древней, модели мировоззрения. Возникла историческая ситуация чего-то великого и неповторимого! Это событие уже никогда не повториться. Христос никогда уже не воплотится, а придёт судить землю "со славою и силою". Что интересно? Причиной второго пришествия послужит нравственная деградация человечества. Вот почему Христос не знал "о дне и часе" точной даты Своего возвращения. Оно не предопределено, поскольку зависит от духовного состояния людей, а не от природы воплотившегося Христа, как это объясняют богословы.
В этой связи, мне представляется интересной аналогия с индийской космогонической традицией, которая вопреки распространённому мнению, не сводится к механическому повторению вселенских циклов. Концепция юг включает этическую градацию: каждая эпоха знаменует нравственное падение, что перекликается с христианским учением об апостасии ("отступление" - целенаправленное решение порвать с христианством). Мировой цикл (12 000 божественных лет = 4,32 млн человеческих лет) не предполагает точного повторения событий, а отражает динамику Дхармы.
Для греко-римского мира исторические события не содержали никакого сотериологического смысла. Античная историография была антропоцентричной. Её главная цель — понять человеческую природу (философия), а не раскрыть промысел Бога о мире и человеке. Помните у Протагора: "Человек есть мера всех вещей: существующих, что они существуют, и несуществующих, что они не существуют". Современный философский релятивизм, идея о том, что истина, мораль и ценности относительны и зависят от конкретного человека, а не являются объективными или абсолютными, - это возврат к протагоровской мыслеформе. Тем не менее, историография начинается в Греции с Геродота. Геродот объясняет, почему он взял на себя труд написать свою Историю: "чтобы деяния людей не исчезли в забвении". Мотивы других историков античности были иными. Фукидид, например, стремился показать вечную борьбу за власть, по его мнению, являющуюся характерной чертой человеческой натуры. Полибий утверждал, что вся история мира имеет конечной и высшей точкой своего развития Римскую империю. Тит Ливий искал в прошлом "модели для подражания", но в рамках этического воспитания, а не спасения души. Ни один из этих авторов - даже Геродот, имевший пристрастие к экзотическим богам и теологиям, - не писал свою Историю с той целью, с какой это делали авторы более древних исторических повествований из Израиля, а именно, чтобы доказать существование божественного плана.
Впоследствии, христианскими мыслителями создается величественная сакральная мифологема, смысл которой в провиденциальном значении Римской империи – создавшей блестящие условия для распространения христианства. Основными характеристиками сформировавшимися к I – IV Римской Империи (разумеется, это не отменяло социальных и культурных отличий) были: 1) единое лингвистического пространство - греческий и латинский языки охватывали даже отдаленную Дакию; 2) централизованная власть и единство (вертикаль) бюрократической администрации; 3) единое правовое пространство, уже при Каракалле (211-217) провинции получают римское гражданство. Гражданство было юридической, а не этнической категорией; 4) единое коммуникационное пространство. Развитая сеть дорог, акведуков, систем канализаций и городское планирование стали эталоном инженерной мысли; 5) единая идеология, поддержание «культа силы» и воинского духа. Уже при императоре Каракалле (211-217 гг.), когда провинции получают римское гражданство (опыт, повторённый М. Течер относительно английских колоний), процесс унификации Единой империи можно считать законченным.
Впоследствии, когда христианство окончательно получает государственный статус, при Феодосии I указом 381 г., законодательно оформляется и единая религиозная вера. Хотя да, после указа Феодосия I (380–391 гг.) религиозная унификация сопровождалась насилием и не охватила окраины. Язычество сохранялось в сельских регионах до VI в. Логика была такова, в единой империи, существует единый народ (римляне, а затем ромеи) и только одно вероисповедание (кафолическое, т.е. "вселенское" христианство). Такова историософская идея Римского мира.
С перемещением Константина Великого на Восток и созданием новой столицы Константинополя, ситуация в целом не меняется. Однако, в 395 г. происходит разделение Империи на Западную и Восточную, а затем в 476 г. Под натиском вандалов (в 455 г., Рим ограблен, а население беспощадно избито), а затем лангобардов – Западная Римская империя падает. Начинается процесс формирование новых государственных образований. Для нашей темы, крайне интересным представляется тот факт, что новые хозяева "останков Римской империи", как правило, исповедовали гомеианство (готы, весготы, бургунцы и т.д.), либо оставались язычниками, чем принципиально отличали себя (в религиозном отношении) от туземного населения.
Я солидарен с теми исследователями, которые видят одну из причин падения Византийской империи, в возникновении национально-сепаратистской идеи. Идеи, которая не существовала ни в Римской империи, ни в Ромейской Империи (далее, Византия). Однако, сепаратизм XIV–XV вв. был вызван не столько "заимствованным национализмом" с Запада, а:
— Экономическим истощением после Четвёртого крестового похода (1204 г.);
— Конкуренцией между аристократическими кланами (Палеологи vs Кантакузины);
— Религиозными расколами (монофизиты Египта и армяне отвергли Халкидонский собор, что облегчило арабские завоевания). Национальное самосознание в Средневековье строилось вокруг веры, а не биологических признаков. Этнические конфликты в Византии носили конфессиональный характер: армяне воспринимались как "еретики", а не "иная нация". Термин "греки" (рωμαίοι) обозначал граждан империи, а не этнос. Правильная вера - вот, что надувала паруса Империи в следование Промыслу Бога!
Стремительное арабское завоевание Египта связанно с тем, что огромная масса простого народа, религиозно связанная с монофизитством (в истории известно жесточайшее преследование египетских монофизитов императором Ираклием), принимала арабов как освободителей. А византийские греки связывали себя с византийским православием (ортодоксия), которое после неудачной попытки объединения с Западной Церковь на Ферраро-Флорентийском соборах (уния 1439 г. была политическим ходом для получения помощи против турок, а не богословским компромиссом), стало национальным атрибутом истинного грека.
Беда в том, что универсальная идея христианства, как мировой религии, постепенно деградировала в идеологему христианства национального. Этот простой и столь очевидный факт, почему-то постоянно упускается из виду. В средневековой Руси, слово христианин и латинян, означало не одно и тоже. Более того, латинская вера была "дэ факто еретической".
В 1448 г. Собор русских епископов поставил митрополитом Московским и всея Руси Иону, тем самым положив начало автокефалии (от греч. самовозлавление) Русской Церкви. Как известно, русский митрополит Исидор подписал унию (Ферраро-Флорентийскую), тем самым создав прецедент послуживший толчком к исторически назревшему событию — отделению Русской Церкви от кириархальной Константинопольской Церкви. Теперь, становится понятными причины, побудившие великого князя Московского и всея Руси Василия III отнестись более чем внимательно к посланию старца Филофея "Об исправлении крестного знамения и о содомском блуде", в котором впервые формулируется религиозная идея о Москве – третьем Риме, а также преемственность власти московского великого князя и византийского императора. Нужна была политико-идеологическая мотивация, для национальной автокефалии. И она нашлась: "Соборная Церковь наша в твоём державном царстве одна теперь паче солнца сияет благочестием во всей поднебесной; все православные царства собрались в одном твоём царстве; на всей земле один ты – христианский царь". Ну что же последовательно, ясно и целостно. С этого времени, думаю можно говорить о Русской Церкви, как о национальной. В то время, в народе ходил такой интересный пересказ беседы Христа с самарянкой: "Она Ему говорит: как же я Тебе дам напиться, когда Ты – Еврей; а Он её в ответ: врёшь, говорит, я чистый русский".
Национальный менталитет, в нашем случае русский, как бы русифицировал Евангелие, породив тем самым русского Христа. Хочу объясниться, я не против такой идеализации, если она способна как-то сплотить Русский православный мир и дать ему творческий прорыв. Я против того, когда эти идеи служат тёмной стороне человека. При всём моём глубочайшем уважении к Ф.М. Достоевскому, произведения которого я перечитывал неоднократно, никак не могу согласиться со следующими его мыслями: "Надо, чтобы воссиял в отпор Западу наш Христос, которого мы сохранили и которого они не знали… одною только русской мыслью, русским Богом и Христом… на всей земле единственный народ-богоносец, грядущий обновить и спасти мир именем нового бога", - ему одному "даны ключи жизни и нового слова" (См. речи кн. Мышкина в "Идиоте" и Шатова в "Бесах"). Не понятно и совершенно не ясно, почему именно русский народ православный – превыше всех сынов человеческих в очах Божиих? Чем мы тогда принципиально отличаемся от евангельских фарисеев? Ап. Павел сказал, что во Христе нет ни эллина, не иудея и скифа - это и был мощный движ для вселенского распространения христианства! А что теперь?
Насколько каждый народ любит Христа, насколько каждому из них Он дорог. Быть русским не тождественно быть христианином. У каждого народа своё служение и своё призвание. Каждый народ даст свой ответ пред Лицом Всевышнего. Как в своём уповании, так и в своих делах. Если же мы, рафинируем идею национального Христа, то тем самым впадаем в грех идеализации земного, возводим земное в безусловное и абсолютное. Одним словом, извращаем смысл Христианской Церкви – как нового общества и нового народа.
Стоит отметить, что в «Новом Завете» из 110 случаев употребления слова «экклесия», 90 раз оно обозначает не единую или вселенскую Церковь, а местную, легко объясняется тем, что авторы писали или отдельным христианским общинам, или об отдельных христианских общинах. Отсюда, сравнительно чаще повторяющееся употребление "экклесия" в смысле местной церкви не может противоречить тому, что первоначальное значение слова экклесия – именно вся совокупность христианского общества. "Как можно видеть, в Евангелии нет сколько-нибудь подробно развитого учения о Церкви, и можно на основании ясных свидетельств Евангелия дать только самое общее определение Церкви. Церковь есть общество верующих в Господа Иисуса Христа Сына Божия людей, возрожденных Им и Духом Святым, соединенных в любви и под непрекращающимся воздействием Св. Духа достигающих совершенства" (Арх. Иларион Троицкий «Очерки из истории Догмата о Церкви» М.1997 г. С. 10-11,15-16).
P/S. Современное православное богословие осуждает этнофилетизм — смешение Церкви с национальной идеей. Этнофилетизм был осужден Константинопольским Собором 1872 г., а Критский Собор 2016 г. подтвердил это. Апостол Павел (Колоссянам 3:11) и Отцы Церкви (Иоанн Златоуст, Григорий Нисский) подчёркивали универсальность Христа и Его жертвы, что подтверждает эволюция экклезиологической модели местных церквей к соборной. История учит: когда вера становится инструментом идентичности, она теряет пророческое измерение. Как показывает опыт восточного христианства (Империя Ромеев), Церковь выживает не через политическую мощь, а через свидетельство о Христа и диалог с внешним миром. Современные вызовы требуют возвращения к парадигме "нового человека" (Ефесянам 2:15). В общем, Бог не принадлежит ни одной культуре, но каждая культура призвана отражать Его свет.