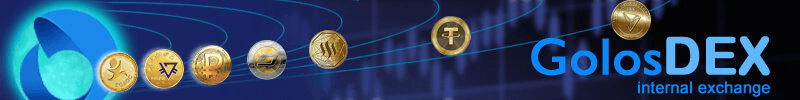К статьей: От святости до "сосуда греха": Как на самом деле менялось отношение к женщинам в христианской Церкви? Ч.4 получил комментарий от А. Г. Дунаева — российский патролог, переводчик, специалист по истории религии, искусствовед и литературовед:
Известные всё вещи. Автор не учел "компенсаторную" роль почитания Богоматери (отчасти как замещение языческих "женских" культов Матери-Земли, Кибелы и проч., вплоть до т. н. 4-й ипостаси софиологов и откровенного магизма Лосева). Восторженное отношение к раннехристианским subintroductae ("жена яко сестра") тоже вызывает вопросы, которые не место здесь обсуждать, равно как и отношение христианства к полам и сексуальным отношениям в целом.
Но автор постинга в ЖЖ интересно ставит акцент на Асклепигении как посвятившей Прокла в языческие мистерии. Я как-то упускал этот момент, но сейчас счел бы такой акцент довольно важным. До сих пор я считал первостепенной в становлении неоплатонической теургии роль Ямвлиха -- однако готов согласиться, что нельзя приуменьшать и роль подобных "женских" факторов.
Мой ответ:
Спасибо за важное уточнение!
Эта интересная проблема мне известна, но она не входила в задачу этого большого цикла.
Да и изучена она достаточно хорошо.
В первой части, я ставлю вопросы так: "Как так вышло, что религия, начавшаяся с женской любви, преданности и верности Основателю у Креста, спустя три века стала самой мужской организацией в мире? Почему так вышло, что Церковь "забыла" отношение Христа к женщинам?
Вопрос А.Г. Дунаева:
По существу же Вашего постинга я считаю, что Вы не ответили на поставленный вопрос в полной мере, ограничившись лишь самой внешней причиной — упадком нравов. Но посмотрите, однако, на сочинения и жизнь тех же великих каппадокийцев, например. Половой акт считается ими животной мерзостью. Если бы Адам не пал, люди размножались бы, как ангелы, — бесплотно. Макарий-Симеон считал, что Адам и Ева общались в раю, но бесстрастно. "Во гресех роди мя мати моя" стало пониматься абсолютно, у Августина — половой акт стал связываться с передачей первородного греха. Женщина стала считаться нечистым сосудом во время месячных, тут уже и иудаизм стал брать свое. На Руси брачное общение считалось грехом, на это время закрывались иконы.
Вот такие перемены нуждаются в объяснении, сакральные, а не профанные. Основной бранью монахов становится воздержание от искушения, женщина начинает восприниматься как сосуд дьявола. Это тоже следствия падения нравов — или за всем этим стоит нечто большее, некий изначальный богословский дефект? Если да, то когда и почему он возник? Уже у Климента Алекс. появляется сопоставление с практикой животных, когда они спариваются лишь раз в год, и по аналогии он заключает, что и у людей совокупление должно происходить только для зачатия, а потом все время до и после рождения ребенка следует воздерживаться. Иначе говоря, на первое место выходит практическая необходимость в продолжении рода, а любая мистика исключается. Но если христианство победило смерть, то тогда и продолжение рода как противоядие от смерти не столь уже необходимо?
Вот на такие и подобные вопросы хотелось бы увидеть Ваши ответы.
Мой ответ:
Уважаемый Алексей Георгиевич, благодарю за диалог.
Вы задаёте вопросы, которые веками мучили богословов: почему телесность стала «мерзостью», почему женщина — «сосудом дьявола»? Но позвольте спросить в ответ: когда вы читаете святоотеческие тексты о «животной мерзости», вы слышите в них голос Христа — или голос падшего мира, принявшего христианские одежды?
Вы, как текстолог, прекрасно знаете: не всё, написанное отцами, есть Дух Отцов. Многие из этих формулировок — не откровение, а культурная травма, перенесённая в богословие. Платоновский дуализм. Гностическое отвращение к плоти. Иудейская ритуальная нечистота. Всё это — шум помех на частоте Духа. И Церковь, особенно в первые века, боролась с этим шумом — не всегда успешно.
Но вот что важно: Христос не сказал «плоть — мерзость». Он стал плотью. Он прикасался к нечистым — и делал их чистыми. Он говорил женщине у колодца о воде живой. Он воскрес в теле — не отбросив его, а преобразив. Это не «компенсация» через Богоматерь. Это эсхатологический факт: тварь призвана к обожению — вся, включая плоть.
Когда Каппадокийцы или Августин пишут о «бесплотном размножении ангелов», они выражают не догмат, а платоническую ностальгию по идеальному миру — мир, где нет страдания, боли родов, смерти. Это понятно. Но это не Евангелие. Евангелие говорит иное: «Се, творю вся новая» (Откр. 21:5). Не упразднение плоти — её преображение.
И вот здесь — возвращение к нашей теме — открывается глубина вашего же замечания об Асклепигении. Вы пишете, что готовы признать роль «женских факторов» в становлении теургии. Но вы всё ещё видите в этом лишь «фактор». А между тем: теургия Прокла — это не магия. Это вера в то, что божественное пронизывает материю и может быть встречено в ней. Именно эта вера — не гностическое бегство от тела — легла в основу христианского учения об обожении. И именно женщине — Асклепигении — было доверено хранить этот огонь, когда мужчины ушли в абстрактную диалектику.
Вы спрашиваете: «Когда возник богословский дефект?»
Ответ: не в христианстве как таковом, а там, где буква заслонила Дух — где телесность стала предметом страха, а не полем для встречи с Богом. И парадокс в том, что самые глубокие течения христианства — исихазм, ареопагитика — преодолели этот дефект именно благодаря тому, что бессознательно унаследовали женскую мистику: веру в то, что Бог встречает нас не вопреки плоти, а в плоти.
Ваш вопрос о «животной мерзости» — важен. Но он относится к истории падения.Мой цикл — о другом: о том, как сквозь это падение продолжала течь река Духа, и как женщины были её берегами — даже когда их стёрли с карты.
Это не уклонение от вопроса. Это указание на более глубокий горизонт: не этика тела, а мистика обожения. Не «как правильно спариваться», а «как стать причастным Божественной жизни».
Вопрос А.Г. Дунаева:
"И все же Вы не ответили на вопрос: когда и почему произошло такое смещение акцентов?
Что касается исихазма и Ареопагитик, Вы наверняка знаете мою позицию: тут "одухотворение плоти" происходит благодаря языческим мистериям в новой редакции (mutatis mutandis), лишь внешне христианским, а не Христу".
Мой ответ:
"Алексей Георгиевич, я не ставлю целью кого-то винить — ни древних отцов, ни современных исследователей. Трагедия "смещения акцентов" — это не чей-то злой умысел, а неизбежная энтропия любого великого смысла при его столкновении с исторической массой.
Вы спрашиваете "когда и почему?". Мой ответ таков: это произошло не в конкретный год, а в тот момент, когда страх перед тайной (будь то тайна пола или тайна мистического опыта) оказался сильнее доверия к Богу. Когда богословие из "пути обожения" превратилось в "технику безопасности".
Что касается Вашего тезиса о "языческих мистериях в новой редакции" в исихазме — здесь мы подходим к самому интересному. Я вижу в этом не "подмену", а верность Логосу. Если христианство действительно победило смерть, оно не должно бояться "всплывающих" истин прошлого. Напротив, оно призвано дать им истинный Дом.
Асклепигения для меня — не "языческий фактор", а символ той самой живой интуиции, которая не дала христианству окончательно превратиться в сухую моральную систему. Она (и подобные ей) хранила понимание того, что Бог — это не только Судья над плотью, но и Свет, пронизывающий её.
В этом нет "дефекта". В этом есть полнота, которую мы часто боимся признать из-за нашей человеческой ограниченности. Именно об этой неутраченной связи я и пытался рассказать в своем цикле".
Эмоциональная реакция А.Г. Дунаева:
"Во всем Вашем пафосе нет христоцентричности — а, стало быть, вымывается вся суть христианства. Больше мне нечего сказать тут. Это не значит, что я во всем не согласен с Вами, — я тут рассуждаю теоретически с точки зрения "чистого христианства", без примеси "язычества".
Мой ответ:
"Любопытно, что мы ищем Христа в разных плоскостях. Для Вас Его "центр" — в стерильности теории и отсутствии "примесей".
Для меня же — в Его способности войти в самую гущу человеческой (и даже языческой) истории, не погнушавшись никакой "примесью" ради спасения целого.
Если мой пафос кажется Вам не христоцентричным, то, возможно, дело в том, что я вижу Христа не только в текстах, но и в том самом "Вместилище Невместимого", которое хранит Жизнь вопреки любой энтропии.
Рад, что в чем-то мы всё же совпали.".
Реплика А.Г. Дунаева:
"Если не нужна "стерильность", то и боговоплощение было необязательным, ибо Бог может всё. Как считал Ориген, к примеру, ВЗ праведники уже были обоженными и им не нужен был Христос. Последний пришел ради обычных людей. По этой же логике любая религия может привести человека к познанию (общению) Бога как творца мира, хотя бы через созерцание творения (это и апостол признавал).
У нас с Вами разное понимание христианства, это так".
Мой вопрос А.Г. Дунаеву:
"Алексей Георгиевич, в развитие нашего диалога и учитывая Ваш колоссальный опыт работы с первоисточниками, мне бы хотелось задать Вам встречный вопрос в контексте моего цикла.
Если мы признаем (как Вы верно заметили), что в христианской антропологии со временем возобладал взгляд на женщину как на "нечистый сосуд" и "причину падения", то как Вы объясняете поразительный парадокс литургического выживания "женского"?
Почему, несмотря на весь аскетический мизогинизм и "биологизацию" греха, Церковь в самом сердце своего таинства — в Евхаристии и в догмате о Богоматери — сохранила образ Женщины как единственного "Вместилища Невместимого"?
Не кажется ли Вам, что здесь мы имеем дело с фундаментальным разрывом между "богословием страха" (административно-аскетическим) и "богословием Тайны" (литургическим)? И если этот разрыв существует, то не была ли та же Асклепигения для неоплатоников попыткой удержать ту самую Тайну, которую христианство сохранило в образе Пречистой, но порой теряло в своих морализаторских трактатах?"
Его заключительный ответ:
"Этот вопрос касается "коллективного бессознательного", я тут не спец и вообще не люблю такие темы.
В целом же можно сказать, что 1) эти два течения дополняют друг друга, 2) в "литургике", понимаемой очень широко, вообще очень много языческого."
Р/S.
В то время как аскеты-моралисты на периферии церковной мысли спорили о «нечистоте» женской природы, в самом центре Церкви — у Престола — совершается нечто прямо противоположное.
Материя как Причастие, а не Грязь: Евхаристия утверждает, что материя (хлеб, вино, плоть) способна принять в себя Бога. Если плоть была бы «животной мерзостью», как пишет А.Г. Дунаев, то Боговоплощение и Причастие были бы невозможны. Литургия реабилитирует плоть, которую пытались проклясть монахи-радикалы.
Женское начало как прообраз Церкви: В литургическом смысле каждый христианин (и мужчина тоже) в момент принятия Даров занимает «женскую», принимающую позицию. Мы становимся «чревом», принимающим Логос. Женщина в этом смысле — не «сосуд дьявола», а первообраз человечества, способного на синергию с Богом.
Литургия против Текста: Тексты аскетов могли быть мизогинными, но молитва Церкви оставалась софийной. Образ Богородицы как «Одушевленного Храма» доминирует над любым частным мнением о женской «второсортности». В Евхаристии «нет мужеского пола, ни женского», но есть Личность, преображаемая Светом.
Этот разрыв между «учебником аскетики» и «реальностью Чаши» и есть мой главный ответ А.Г. Дунаеву и Ко.
Трагедия в том, что многие аскеты (и Дунаев здесь их верный эхолот) воспринимали Литургию как «священный ритуал», а женщину — как «бытовую опасность». У них в голове эти две реальности не пересекаются. Это называется компартментализация сознания: в алтаре они созерцают Тайну Боговоплощения через Деву, а выйдя за порог, пишут трактаты о том, что женщина — корень зла. Они не понимают, что их разум отравлен дуализмом (плоть — плохо, дух — хорошо).
Для них Богородица была «Исключением», «Сверх-Женщиной», которая как бы и не женщина вовсе. А реальная женщина — это «угроза» их покою. Они обожествляют образ, но презирали носительницу этого образа. Это и есть тот «богословский дефект», о котором говорит Дунаев, но он не понимает, что лекарство от него лежит прямо перед ними — в Чаше.
Раннехристианские _subintroductae _(те самые «жены как сестры») как раз и были попыткой соединить литургическое понимание человека с реальностью. Но Церковь испугалась этой высоты и предпочла безопасную «педагогику страха».
Шизофрения ли это? В некотором смысле — да. Это глубочайшее внутреннее противоречие исторического христианства: литургически оно провозглашает святость материи и женственного начала, а юридически и аскетически — клеймит их.
Это трудно принять, но Церковь хранит истину, которую сама же часто не может вместить.
И ещё. Я писал о Метафизике Света, о женском начале как о проводнике божественной Софии и теургической силе, а Дунаев в ответ вывалил на стол учебник по анатомии и сборник аскетических запретов.
Он спрашивает о «дефекте», намекая на системный сбой в ДНК христианства. Но при этом сам же упоминает subintroductae («жена как сестра») — практику, которая доказывает, что изначально в христианстве была попытка иной мистики пола, не сводимой ни к биологии, ни к страху перед «сосудом дьявола».
Его вопрос о том, что «если смерть побеждена, то зачем род», — это классическая провокация. Он прекрасно знает, что эсхатологический пыл ранней Церкви («времени уже мало») со временем столкнулся с необходимостью строить историю.
Профессор фактически вызвал на дуэль по вопросу: является ли мизогиния и страх перед плотью «багом» системы или её «фичей»?
Он видимо хочет, чтобы я признал: христианство не просто «испортилось» со временем, оно изначально несло в себе зерно отрицания жизни.