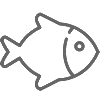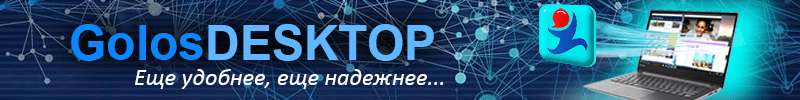Узнав в Александро-Невской лавре расписание паломнических поездок на Валаам, заглянул на Никольское кладбище, что при лавре. Был там лет десять назад и хотелось посмотреть насколько всё приводится в порядок. Увы, всё по-прежнему но, есть и небольшие изменения — некоторые захоронения перестали быть безымянными и на них появилась информация о том, кто здесь захоронен.
Кладбище известно не только высокохудожественными часовнями и склепами, но и разными историями: от лабиринта викингов и пьяного могильщика до сектантов «Богородичного центра». Как и большинство дореволюционных кладбищ, Никольское пережило несколько волн разрушения. Точечное уничтожение и разграбление могил здесь продолжалось до 2000-х годов.

По преданию, в конце девятнадцатого века рядом с кладбищем жил некий монах, о котором шла слава как об искусном лекаре. Но больным было неведомо, что монах исцеляет их порошком из костей покойников. Монах был не совсем монахом, он изучал чёрную магию и поклонялся Люциферу, а рясу носил для отвода глаз. Душу свою он давно продал дьяволу, а взамен получил умение врачевать.

Мечтой черного монаха был эликсир бессмертия, и дьявол предоставил ему рецепт: в светлый праздник Пасхи монах привязал к кресту девушку, выколол ей глаза, отрезал язык и подставил под струю крови чашу. Однако осушить чашу, полную крови жертвы, он не успел: выполняя все ритуалы, он забыл, что сделать это нужно до рассвета. С первыми лучами солнца он замертво рухнул на землю
Утром пришедшие навестить могилы своих родственников люди были поражены увиденным: мертвой девушкой, привязанной к кресту, и монахом, рот которого был забит червями, а одна нога покрылась шерстью и напоминала кошачью лапу!
После этого случая на Никольском кладбище стал появляться огромный черный кот. Говорят, что в образе черного кота по Никольскому кладбищу гуляет сам Сатана.
Чёрного кота встретить не довелось, а вот серого, который сидел в полуразрушенном склепе и задумчиво смотрел на меня, видел.

Вторая по популярности городская легенда Никольского повествует о Пьяном могильщике:
…Раскачиваясь, он бродит в грязной хламиде от одной могилы к другой. Если на его пути встречается запоздалый прохожий, он просит угостить его водкой. Если у прохожего не оказывается с собой алкоголя, привидение разрубает его лопатой пополам!
Словом, вот вам список существ, которых на Никольском следует обходить стороной: черный кот, пьяный могильщик, женщина в черном, которая похожа на ведьму, или же сатанист. Есть уже современные истории о журналистах и спелеологах, которые проникли в это подземелье под одним из склепов в 2000-е годы и там наткнулись на ртутное озеро. А потом им пришлось спасаться бегством от огромных пауков (видимо, это были галлюцинации от ртутных испарений, но почему бы в таком месте не жить огромным паукам).

Ну, а мы, после такого вступления посмотрим кто здесь из известных людей захоронены.


Судьба Ивана Григоровича – флотоводца, государственного деятеля и морского министра в последнем правительстве Российской империи – была негладкой. После смерти его незаслуженно забыли, почти не вспоминали все советские годы.
При Григоровиче был усовершенствован «мозг» военного флота – упорядочены все управляющие органы. Но главное, что министр направил максимум усилий на развитие отечественного судостроения. О том, что они не пропали даром, свидетельствуют лучшие по тому времени линкоры типа «Гангут», эсминцы «Новик», подводные лодки «Барс» и первый в мире подводный минный заградитель «Краб». Полностью выполнить постройку всех серий не позволила Первая империалистическая, что подтверждает истину: флот строится в мирное время для дальнейшего использования.
С конца 1923-го Иван Константинович добивался выезда за границу на лечение и через год уехал на Лазурный Берег в городок Ментон, где жил скромно, отказавшись от помощи правительств Англии и Франции. Там и умер в 1930 году. Только в 2005-м урну с его прахом доставили в Санкт-Петербург и захоронили в семейном склепе на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

Одним из выдающихся искусствоведов дореволюционной России был барон Николай Николаевич Врангель — представитель древнейшего дворянского рода шведского происхождения, сын известного бизнесмена и благотворителя Николая Егоровича Врангеля, а также младший брат русского генерала и вождя Белого Движения Петра Николаевича Врангеля.
В 1903 году он принял деятельное участие в устройстве выставки «Старый Петербург» на Морской улице. Совместно со знаменитым художником, коллекционером и меценатом князем Сергеем Щербатовым, а также с меценатом и коллекционером Владимиром фон Мекком он составил каталог выставки. В марте 1905 года при помощи Врангеля Дягилев устроил выставку портретов в Таврическом дворце, для которой барон Николай Николаевич составил биографический указатель художников и напечатал в журнале «Искусство» статью о выставке, являющуюся попыткой исторического обзора русской живописи.


Русский живописец и график, представитель петербургского академизма.
Наиболее известен как автор проектов памятников в ряде городов Российской империи, в том числе знаменитого монумента «Тысячелетие России» в Великом Новгороде. Также Микешин работал как иллюстратор и карикатурист.

Офицер-артиллерист командовал правой носовой шестидюймовой башней эскадренного броненосца "Орел". В Цусимском бою был смертельно ранен (получил тяжелые ожоги), умер в плену. После войны его перезахоронили в Санкт-Петербурге на Никольском кладбище Александро-Невской Лавры.
Надпись на могиле: «Лт. Александр Владимирович Гирс. Родился 27 апреля 1876 г . скончался 26 мая 1905 г. в г. Майцзуре от ран полученных в Цусимском бою». Рядом с его крестом есть черное надгробие Веры Юрьевны Гирс. Она скончалась 3 июля 1910 г
В романе А. С. Новикова-Прибоя "Цусима" есть целая глава посвященная мужественному офицеру.

Вице-адмирал Лев Алексеевич Брусилов (1857–1909), брат А. А. Брусилова, который известен нам по Брусиловскому прорыву. Во время Русско-японской войны 1904–1905 годов капитан 1-го ранга Лев Алексеевич Брусилов командир крейсера «Громобой».
_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE.jpg)
Блаженный родился 16 ноября 1848 г. в семье приходского священника Подольской губернии, в 1867 г. окончил Каменец-Подольскую Духовную семинарию и в 1871-1876 гг. с перерывами учился в Санкт-Петербургском университете, но не окончил его. В дальнейшем Матвей Татомир некоторое время жил в Каменец-Подольске, а затем стал совершать паломничества по святым местам, прожив около трех лет в Иерусалиме. По свидетельству 1931 г. лаврского иеромонаха Матфея (Челюскина) «знаменит он был тем, что ездил-паломничал на поклонение святым местам, по российским и палестинским. Последние семь лет провел в затворе в Санкт-Петербурге на частной квартире на Ивановской улице дом 22, квартира 18». 17 сентября 1904 г.
Со склепом-часовней Матвея связан любопытный казус, о котором писали многие новостные сайты. Рано утром 27 февраля 2021 года смотритель Никольского кладбища Клауд Роммель совершал плановый обход и вдруг увидел свечение возле усыпальницы Матвея Татомира. Сначала он решил, что это вандалы, почему-то жгущие файеры на кладбище перед рассветом. Но, подойдя ближе, Роммель разглядел фигуру светящегося священника с золотым Евангелием. Это был отец Иоанн Кронштадтский.
А мы на этом заканчиваем нашу небольшую экскурсию и возможно вернёмся сюдя ещё раз...

 Санкт-Петербург, Александро-Невская лавра. Август девятнадцатого дня 2025 года.
Санкт-Петербург, Александро-Невская лавра. Август девятнадцатого дня 2025 года.