
Фото взято: http://www7228.stihi.ru/2015/02/15/
ВОЛЯ
11 летний Ёжка балансировал на торце здоровенного деревянного столба над такой далёкой отсюда и такой твёрдой воронёной гладью воды уже несколько минут, теряя самообладание всё больше. Но слезть обратно не мог, т.к. деревенские пацаны пристально и уже ехидно смотрели на него, городского задаваку, ляпнувшего «Запросто!» на предложение прыгнуть с пятиметровой высоты. И вот теперь, от ужаса и от стыда, не мог решиться ни туда, ни обратно. Противный свист сдернул оцепенение. Падение было неудачным, пластом. Из воды его вытащили почти без дыхания. Откачали. Смеялись обидно. Но он вернулся на следующий день. И нырнул. Вновь отбил икры ног, но обрел друганов и уважуху. А когда в глубине упёрся в дно руками, и открыл в панике глаза, то прямо перед ними увидел здоровенного рака, поклацавшего клешнями и умчавшегося задом оперед. Хвастался, трясясь от пережитого, разводил руки, кричал «О!». Не верили, смеялись задорно, ободрительно. То ли у страха глаза велики, то ли тот рак в тот раз свистел. Ждал. Стало быть.
***
Каждое, без исключений, лето до окончания школы Ёжку и Ёньку пачемуни отвозили в Деревню к Деду, паушке и тёушке. Родители гостили недолго, а братья почти всё время летних каникул оттаивали от дисциплины и так дичали, что только к новому году приходили в себя, и начинали толком учиться, подчиняться. Деревня от отъезда к приезду отмирала дворами, из пятнадцати тысячного процветавшего при картонной фабрике рабочего посёлка неспешно превращаясь в прореженную хуторскую агломерацию из ветшающих деревянных домов. Однажды проложенная асфальтом улица, конечно Ленина, переходящая в дорогу к районному центру, разбивалась от года к году, но в сравнении с жутким бездорожьем до, даже в зрелом возрасте казалась Ёжке приемлемой. Ведь он то помнил, как на грузовиках с подтягом тракторами они с отцом преодолевали ранним туда и поздним обратно летом «последние» шестьдесят километров, чавкали в грязи от брошенных на произвол удачной погоды машин. - Тупик, он и есть тупик, - вздыхал Дед всякий раз при встречах и расставаниях, - помрём вот, и зарастёт всё лесом. А Ёжке нравилось. Благодаря тому, что за Деревней дорога-улица кончалась, и только направления в лесные делянки и бывшие деревеньки указывали, что жизнь там какая то или есть или была. Потому вокруг Деревни была непуганная людьми дебрь, от которой их, детей, никто не ограждал. Там и пропадали подолгу, в охотку то за грибами или ягодами, то просто, шатались по тропам и лугам, придумывали, додумывали и досказывали всякие приключения, попадали в переделки, оправдывались перед Дедом. А тот их конечно строжил, а сам любился глазами, не то что баушки, охали да квохтали. Все их похождения, однако, были словно привязаны к речке Вол, рассекавшей Деревню и дебрь. И перетянутой пополам. Плотиной-мостом. Мост по над плотиной получился горбатым, т.к. был деревянным, и конструкцию сделали арочной, однако пристроенный пешеходный переход-подход к подъёмникам щитов, регулирующих уровень воды в запруде, был прямым. Со столба одного из трёх подъёмников Ёжка и прыгал. Много. Нравилось. Быть среди немногих смельчаков.
Фабрика забирала чистую воду из запруды, чтобы потом выбросить целлюлозную грязь, убивающую Вол совсем на десятки километров вниз по течению. Грязь та склизкой ржавчиной оседала на берегах, расползалась по всей округе в паводок. Высыхала и свисала с ветвей деревьев. Валялась лепёшками на лугах наряду с коровьими. Противно воняла. И даже после остановки фабрики в окаянии всероссийской разрухи, когда Ёжка вошёл в зрелость, речка восстанавливалась долгие годы.
Так как родовое гнездо, крепкий пятистенок на две семьи, в коллективизацию разобранный в родовой деревне и перевезённый в рабочий посёлок, оказалось у Вола ниже плотины, то местным детишкам, составлявшим с приездом братьев ёков отважную летнюю ватагу, приходилось ходить купаться за «горбатый». И там, на запруде в жару отрываться целыми днями, забывая про еду. Там же Ёжка научился плавать. Когда отец рассказал, как бултыхался в омуте под хохот старшего брата, выбрасывавшего семилетнего Женьку из лодки на глубину, Ёжка утвердился в мысли, что с ним такое не пройдёт, и он утонет камнем. А потому учился сам, всё глубже и глубже уходя в глубь с лягушатника, мелкой заводи, в которой под приглядом мамаш плескались малыши и бесились в играх младшеклашки. В 9-ть под Ивана-Купалу решился, и неожиданно легко переплыл запруду, как спустя годы оказалось, совсем не широкую. А ночью, гордый собой, прыгал через костёр. Однажды, в 12-ть, у моста выдержал экзамен боем, когда с Ёнькой, вдруг оказался окружённым местной братвой во главе с известным всем ухарем Вокой Чёрным. Так его звали за цыганскую смуглявость и наглость. Не было тогда ни толерантности, ни шовинизма. Звали и звали. Поровну. Так вот, братва подначивала «Ну чё, смелый да!? Давай помахаемся! Ща отделаем, маме плакаться будет нечем!» Вока молчал, хмырился разбойничьей рожей. Сплёвывал. И нарвался. Ёжка глядел только на Воку, и сам не понял с чего, нещадно труся крикнул негромко «А давай! Один на один!». Шайка вмиг утихла. Запереглядывались. Старшие, трое лет по 13-ть, засели на лежалое, проросшее мхом бревно, и давай совещаться, не желая поступаться авторитетом перед Вокой, но и всем видом намекая, что мол, Вока заводила, вот и пусть. Вока помялся было, и тоже сел на бревно. С краю. Круг рассыпался, младшие сбились в кучки. Ёжка ждал позора, пока какой то, оставшийся в одиночестве пацан не произнёс почти шёпотом «Да идите же, чё тут.» И братья ушли. Правда, уже на подходе к дому услышали шлёпы босых ног по утоптанному песку. Обернулись как раз на расстоянии вытянутых рук двух пацанов из младших, один из которых скользом мазнул кулаком о Ёжкину щёку и был таков. Второй убежал ещё быстрее. Вдалеке толпилась оконфузившаяся шантрапа. Тот что «вдарил», заходил с того дня гоголем, победно посматривая на братьев. Щека же даже не покраснела. Пошла молва про «каратиста» Ёжку, к которому лучше не подходить. В то время карате стало запретным культом, и всяк городской видимо должен был быть в глазах этих, не допущенных к модным единоборствам, ребят обязательно обученным всяким там «ху!» и «йя!». Следующим летом Вока задружился с Ёкой.
Это состояние преодоления отчаянного желания бежать Ёжка пережил ещё дважды. Той же осенью стоя под ножом к своему горлу в хапе пьяного в густых наколках рецедивиста, просто так выхватившего паренька из стайки авиамоделистов, шумно возвращавшихся с соревнований. И уже будучи офицером, когда шёл спасать соседку от упоротого в зю любовника, оравшего на весь двор, что зарежет. Каждый раз, словно выползая из липкой смолы, он еле еле двигал членами и языком в пересохшем рту. Во второй раз не отпускала мысль, что так, наверное, люди встают в первую атаку, под пули ли, в штыковую ли. И всматривался в кадры кинохроник, обращая внимание на то, как медленно бегут бойцы. В смоле не больно то разбежишься. Службу его миновала война. Не испытал.
***
В 13-ть догадался, почему вся их последняя вдоль Вола улица отсечена от реки дамбой. Говорили, что для спасения от паводков. Нет. От целлюлозной грязи! Произошло это, когда случилось наводнение и улицу таки запрудило. Грязь пронесло. Дамба эта возвышалась над плоским позаулицей полем. И Ёжке нравилось сидеть «на горе» и смотреть округ бесцельно безмятежно. С одной стороны Вол, с другой воля. Поле простиралось далеко, не как степь, конечно, и за ним оградой тёмная дебрь. Ёжка, к тому времени уже зачитавшись книгами, представлял себе Поле, и не представлял. «Как это так? Бескрайнее!? Скучно же.» И правда, скучно. Когда прибыл служить в Казахстан, Поле его не приняло. Смотрел на горизонт, на колышащийся ковыль, и стыл от тоски под жарким ветром. И невольно подвывал замученную в детстве под ненавистный баян:
Степь да степь круго-о-ом,
Путь далёк лежи-и-ит.
В той степи-и глухо-о-ой,
Поо-мии-рал ямщи-и-ик.
В то же лето, улетая на «кукурузине» Ан-2 впервые без рвотных рефлексов «мордой в пакет», лишь икая и сглатывая на воздушных ямах, наконец, смог всмотреться и влюбиться в зелёное море тайги, бескрайней как Поле, но другой, скрытной, таящей в себе тропы и тайны, множества множеств. Летел и думал о Воле и Воле. Воле к преодолениям и победам, и Воле как высшей степени свободы, загоризонтном, отрывном от маятных причин чаяньи, почти недостижимом, но манящем, не дающем успокоиться и смириться. Воля к Воле на Воле(у) стала его альтер-эго.
В 14-ть вновь на валу у Вола, Ёжка вспоминал и раскладывал «парадокс русской Воли». Прочтённого и слышанного про войны и бунты было достаточно, чтобы чувствовать и не понимать эту двойственность в себе и других. Только истинно вольный человек может проявить столько воли, что готов к самопожертвованию. Ему представлялся Ермак Тимофеевич, шедший с дружиною своей в неизведанное, «на волюшку», почти без шансов вернуться на родину. Казаки, старообрядцы, скитники, беглые крепостные и каторжные уходили наволю, осваивали закраины и пустыни. Преодолевая непреодолимое, проявляя волю. И даже будучи или становясь вольными всё равно искали воли. Оттого, видно и к юродивым отношение было почтенным, что те вольны были на всё. Оттуда и тяга в «Полюшко поле – полюшко широко поле…», и смысл «волюшка воля…», «воля вольная». Поле, несмотря на жизнь в основном в лесах, ассоциировалось в массовом православном-крестьянском сознании с кочевничеством, поганой (гонной, вольной) жизнью чуждых для понимания, и заманчиво свободных людей. Будто бы там и только там, в Поле необъятном, море бескрайнем, пущах непролазных, скрывалась воля. Настоящая, неизведанная, манящая, отречённая, обречённая, запредельная. Такая, что и сгинуть не страшно. Лишь бы испытать. Отсюда и сподвиг, преодоление привычки с нажитому, привычному, и неважно, к плохому или потребному, разрыв течения времени и бытия, в пользу воли. И надо же, в деревенской библиотеке наткнулся на сборник рассказов и повестей Николая Лескова, и словно в ответ на собственные рассуждения прочитал в нетерпении откровений «Железную волю». В недоумении закрыл книгу, выждал день, ушёл в поле, неспешно перечитал. Захлопнул гневно.
- Нет. Не наша воля. Глупая. А наша? Дикая. У него, у немца, расчётная. У нашего, у скифа, раздольная. Ему, немцу, места мало, вот он и упирается, в стойле. А нашему «иди не хочу», и везде тесно. Немец всё вглубь копает, а наш – вширь, не глядя под ноги. Немец весь в аккурате, а наш набекрень. Ну и кто лучше?
Не удержался, спросил Деда:
- Почему у нас Воля такая сложная? И про упорство, и про свободу.
Дед, сельский интеллектуал, всегда подтянутый, признанно справедливый, рассуждающий соседей в спорах, озадачился.
- И правда, сложная. Не думал. Так. Пожди.
Ждал Ёжка ждал, и уехал ни с чем. И только перед смертью, лютой зимой, когда Ёжка приехал проездом погостить днями, Дед разоткровенничался про войну. Много рассказал, долго рассказывал. Жилы вздувались на лице и шее, местами страшной памяти. Передыхал, умалчивал.
- Отступали бестолково, огрызались, бежали, закапывались, отстрелливались. Кончались патроны, снова бежали на наших, затаривались арсеналом, атаковали. Оставшиеся откатывались. Самое страшное началось на Волоколамском шоссе. Москва рядом, вал техники к ней. Все орут. Истребители, в грязь. Бомбардировщики - в россыпь. Сталкиваем разбитую технику и бредём. Казалось всё, кончилась война. И вдруг, свеженькие мужики в белых полушубках. Навстречу. Строем. И все перед ними расступаются. За ними сталпливаются. А через время новый строй. И мы уже, за ними, друг друга строим. Ищем, кто бы скомандовал. А в душе Песня! И плевать, что там сзади жуть. Смерть. И мы грязные, рваные, измёрзшие. Собрались под началом юнца-лейтенанта, и просим: «Командир, веди!». Из разных частей, кто в чём, собрались в роту и следом. Так оттопали, почти без оружия километров 20-ть. А нас новенькие танки обгоняют. И гром впереди. Мясорубка. Вдруг тормозит перед нашим «строем» «газон», а из него генерал в скрипящих ремнях. В новенькой, как твоя сейчас, форме. И говорит «До ближайшей деревни. Ждать обоз. На переформировку!» А мы против. Кричим «На передовую хотим, пустите!» И лейтенант геройствует «Товарищ генерал! Как же так. Мы на фронт, а вы нас!». А генералу не до нас «Нарушите приказ, под трибунал!». Поникли мы, бредём. А мимо свежие части, техника. Прут и прут. Лица суровые. И среди них видно сразу, кто впервые, а кто не впервой. Только через месяц нас выпустили на фронт. А ведь казалось же, что и сил нет, и немца не остановить. Откуда всё, и как?!
- Или вот. Идём в атаку, повезло, за танком прячемся. Экипаж знает, что мы за ним, и притормаживает. Пули шмякают в броню, свистят противно. А нам всё неймётся, рожи высовываем, посмотреть что да как. И ведь не нужно. Танк прёт, командир на броне за башней, смотрит. Так нет же, погреешься о выхлоп. Вонючий! Чихаешь, а лезешь, греться. Задохнёшься, отстанешь, догонишь и глядеть, что там впереди. Пока не шмякнет рядом, или не прожужжит. Откинешься «пронесло», пережидаешь. А сосед шею тянет. И всё так, в войну. Знаешь ведь, как риска лишний раз избежать, ан нет, нет нет да лезешь на рожон. Иначе скучно.
Ёжка слушает, представляет. Не получается. А Дед уже весь в себе, и забыл, что с внучатым племянником делится.
- А как границу то перешли, вот распахнулись то. В Чехии это было. Зашли значит и не поняли. Вроде и отличий от бывшей Польши никаких. Всё ладно, вылизано. А успели привыкнуть к новой Белоруссии, и за своё считали. Да и не было у меня никакой зависти. Вот красиво всё, а не то. Мелко. Скаредно. Но на душе ликование. Словно уже победили. Словно всё позади. И уже не важно, живу быть или костьми лечь, как дед твой под Варшавой, а хорошо! И задор такой был, что городки их брали наотмашь. Пронеслись через Чехословакию штормом. И ухарством вроде бы плескало, а опыт уже не давал погибать. Экономили жизнь, инстинктивно уже, автоматически. И вдруг, граница с Германией. И надписи эти, ненавистные, на указателях. Заходим в городок. А он пустой. Обшарили и остановились на отдых. Командиры собрались в ратуше, а нам, свобода! Ну и пошли мы с товарищем смотреть. Куда не зайдём, везде порядок. Словно немцы, уходя, генеральную уборку навели. Если где и есть оторванные двери или штукатурка осыпавшаяся от пуль, так это наши наследили. Зайдёшь в квартиру, а там даже шкафы и шкафчики закрыты. Фотокарточки висят. И на нах самодовольные, ухоженные до противного … враги. Злобишься, смотришь и не сдержаться, бьёшь прикладом, пинаешь что ни попадя сапогом. Так прошли пару кварталов, и много всякого, чего и не видали то, а брать противно. И ломать, мазать, рвать быстро надоело. Всё одинаково. Игрушечно. Не по настоящему. Вышли к какой-то фабрике. Красный кирпич, солидно, с узорами. И стена. Большая. Кое-как перемахнули. А фабрика то швейная. И опять, чисто всё, аккуратно. Приторно. Попали на склад. А там!!! Ткани, ткани, ткани. Красок, цветов, узоров не счесть. Тут уж не до брезгливости. Мы хватать, выбирать. И то нравится, и это. Час выбирали, вещмешки набивали, опрастывали. Бросались к другим рулонам, отматывали, отрезали. Шли, увлекались, и вновь. На жену всё примерял. И так-то хорошо, и этак. Устали, сели на сваленные рулоны, курили и молчали. Взял я, таки, Марье своей цветастый отрез, да Нюре, сестре в маленьких редких розочках синий, ну и себя не обидел, полосатый кусок на костюм, на глаз отмахнул. А друг и того меньше, жене да дочке, что поярче, и всё. С полупустыми вещмешками ретировались. Потом неделю друг другу в глаза смотреть не могли. Нюрин отрез так и лежит в чулане. Не притронулась. Да, и вот ещё. Много игрушек было. Но взять не мог. Детей обидеть.
И под утро, между клочков пороховых воспоминаний:
- Вот ты меня про Волю спрашивал (словно вчера?!). Так её хоть думай, хоть передумай. Вот какая есть! Как монета, о двух сторонах, о двух головах. Тяжёлая. Такая, что подняться и нести не всяк может. И не учит ей никто, да и научить нельзя. Вот есть она у нас, и есть. Выматывающая. Вдохновляющая. Сколько не думал, не объясню. Деда вот твоего всё вспоминаю. Справный был мужик. Вместе уходили, и вот. И кому из нас воля?
У Деда из одного глаза пролилась слеза. Снова вздулись жилы.
***
В 15-ть Ёжка решился пойти в офицеры. А в космонавты постеснялся.


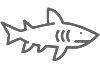



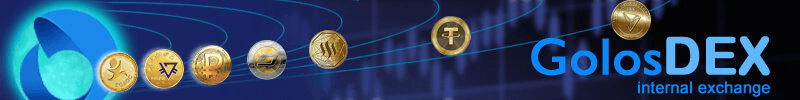
Привет! Я робот. Хозяин поручил мне проголосовать за Ваш пост! Я нашла похожий контент, который может быть интересен читателям ГОЛОСа:
http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks359134