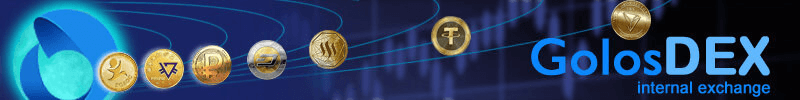"Не убий" (Исх. 20: 13)
"Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут". (Мф. 26: 52).
"Спрашивали его также и воины: а нам что делать? И сказал им: никого не обижайте, не клевещите, и довольствуйтесь своим жалованьем". (Лк. 3: 14)

Мы живём в удивительно-будничном по своему лукавству мире. При колоссальных научно-технических достижениях я вижу столь же равнозначную апостасию. «Современная цивилизация в лице большинства её влиятельных деятелей или грубо отвергает Христа, или вежливо не обращает на Него внимания, в то же самое время принимая большей частью те самые принципы и идеи, которые Он подверг осуждению и от которых отказался», - эти слова И.И. Сикорского, актуальны, как никогда.
Заповедь Христа чётко говорит: «Любите друг друга». В мире Любви нет места горю, страданиям, утрате матерью сына на войне. Не думаю, что найдётся хоть один из честных христиан (даже если он воин), который может представить себе Христа с автоматом, стреляющего по врагам. Хотя в Евангелиях воины встречаются, и негативного, осуждающего отношения к этой земной профессии мы там не найдём.
Единственная война, о которой говорит Господь – это духовная, против своих страстей, пороков, «духов злобы», Дьявола. И по ап. Павлу, война – это прежде всего борьба с грехом, мирскими соблазнами, искушениями плоти, ибо христиане «… хотя и от плоти, не по плоти воинствуем; оружия воинствования нашего не плотские».
Это – фундаментальная основа для аскетов-отшельников, которые выбрали путь радикального выхода из милитаристского мира.
То, что мы живем не в мире христианской Любви, сострадания, милосердия, прощения - очевидно. Да, слов об этом говорится очень много, но только слов. Будем честны. После искупительного подвига Христа человечество не стало милосердней, справедливей и т.д. Да и потом, как объяснить факт того, что со всемирным распространением христианства взаимное истребление человеком человека не только не утихло (а на земле «воцарился мир»), а наоборот возросло? Войны стали более масштабными (первая и вторая мировая война), а последствия от них для мирного населения чудовищнее!
Нас бросает из крайности в крайность, а милитаристские анахронизмы прошлого всё также будоражат воображение. Ветхозаветный принцип: «свой – чужой» принимается, как и в древности, на веру. И вера эта очень проста. Война против «чужого» всегда была, есть и будет. И эта война «священна». Война - неотъемлемый атрибут нашей общей печальной истории и непростой безблагодатной жизни. «Всему свое время, и время всякой вещи под небом... время убивать, и время врачевать; время разрушать и время строить; время войне, и время миру» (Еккл. 3, 1, 3, 8).
Войны не прекратятся до Второго Пришествия Христа, когда Он очистит землю от всякого зла (Откр. 19), которое есть причина войн, голода, болезней и всех бедствий. Это даёт серьёзные «козыри» христианским апологетам милитаризма.
Господь Иисус Христос предупреждал, что войны будут сопровождать нас на всём пути земного существования: «Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец» (Мф. 24: 6).
Христианство говорит о жизни, данной человеку Богом, как о высочайшем, бесценном даре, НО … возобладавшее в церкви мнение святителя Афанасия Великого, сказавшего: «Непозволительно убивать: но убивать врагов на брани и законно, и похвалы достойно», - уже вносит некое сомнение в первое утверждение. Как сказал один умный человек, всё что тебе говорил человек до слова «но» и как бы не убедительными звучали его слова – они больше не имеют смысла. Он тебе лгал.
Безусловно, древние апологеты милитаризации христианства не могли «рубить с плеча», как это делается сегодня.
Вопрос был поставлен таким образом: «Может ли война, например, оборонительная, быть справедливой»? Одним словом, проблема милитаризации христианства становится проблемой не отдельного человека - его выбора, совести и т.п., а проблемой социума. Духовным испытанием для всей христианской церкви. А поскольку война есть следствие неустранимой человеческой греховности, то избежать её не получится. Следовательно, господствующей церкви, которая на протяжении всей своей земной истории выстраивала отношения с государственной властью, необходимо было выработать концепцию, объясняющую, почему христианин должен убивать, (чтобы снять вину со своих рядовых членов)!
Но «отцы церкви» не были бы её «отцами», если из проповедников религии Любви в открытую стали бы проповедниками религии войны.
Найти сбалансированное решение этой проблемы – очень непростая задачка. Помимо всего, нужно было найти и того, кто несёт ответственность.
Очень важно для нашей темы познакомиться с мнением блаженного Августина: «Естественный порядок вещей, стремящийся к установлению мира среди людей, требует, чтобы решение и право начать войну принадлежало государю. Солдаты же должны беспрекословно выполнять приказы своих командиров во имя мира и всеобщего спасения. Пусть сам государь и запятнал себя несправедливостью, но он военачальник. Приказ начальника делает солдата невиновным в совершенных государем злодеяниях».
Таким образом, законные власти, в которых блаж. Августин видит исполнителей Божественной Воли (непостижимой для разума человека), являются теми, кто несет абсолютную ответственность за все зло, которое совершается в ходе войны.
-Да, я убил, но я не виноват, - мне приказали...
-Да, я приказал, но сам я никого не убивал...
У одного - чистые руки, у другого – совесть.
Но как бы там ни было: «грех за человеческие страдания возлагается прежде всего на тех, кто развязывает войну, - на честолюбивых политиков, неудачливых дипломатов, жаждущих наживы собственников, а не на воинов, жертвующих на полях сражений собственной жизнью за чужие ошибки и преступления», - справедливо пишет А. Байдуков.
В средневековье эта проблема решилась так, как только и могла решиться для той эпохи. Вопрос о «справедливости или несправедливости войны» был прерогативой высшей церковной иерархии. В последствии, по мановению римских пап, целые народы, принимая меч и крест, воевали против тех, на кого укажет перст «наместника Бога на земле». «Я сам император» - закончил свою речь в 1300 году папа Бонифаций VIII, явившийся на торжество в императорском облачении (перед ним несли два меча в знак его духовного и светского господства над вселенной).
Понятно, что у рядового верующего не оставалось выбора уклониться или нет от участия в войне, которую церковь посчитала справедливой. Тем паче, что духовная ответственность лежит не на нём. Ранее на церковном соборе в Арле в 315 г. иерархия запретила рядовым христианам дезертировать из армии под страхом церковного отлучения (sic!)
Справедливости ради отмечу, что святые отцы клеймили позором насилие и человекоубийство. «Вопиющим примером войны несправедливой, по Августину, является война против народов, которые не причинили никакого ущерба другому народу. Несправедлива также и та война, которая предпринимается с целью подчинить другой народ во имя удовлетворения собственной жажды власти. Такая война, считает Августин, величайшая подлость», - пишет Франко Кардини в «Истоках средневекового рыцарства».
Но как бы там ни было, на войне христианин убивает. И эту проблему также надо было решить.
13 правило святителя Василия Великого гласит:
"Убийство на войне отцы наши (см. послание Св. Афанасия к Амуну монаху) не считали за убийство, извиняя, как мне кажется, поборников целомудрия и благочестия. Но, может быть, было бы хорошо посоветовать, чтобы они, как имеющие нечистые руки, три года удержались от приобщения только Святых Тайн."
Ключевая фраза: «Убийство на войне отцы наши не считали за убийством».
Для святителя смерть врагов на войне не является убийством, на войне «справедливой» - войне, с целью защиты правого дела, защиты от насилия и зла.
Насколько снисходительно это правило, можно понять, сравнивая с другими каноническими предписаниями, которым следовала древняя церковь. В остальных случаях она не советовала, а предписывала отлучать виновного: за вольное убийство на 20 лет, за аборт на 10 лет, за невольное убийство на 10 лет.
Я как-то выкладывал эпизод из книги генерала Дроздова Ю.И, где он рассказывал о встрече с творческой интеллигенцией. Один из выступающих рассказал легенду о крещении одного из славянских племён. Вождь первым принимал таинство крещения, чтобы подать пример остальным. Он вошел в реку, вынул из ножен меч, и, высоко подняв его, трижды погрузился в воду.
Окунулся, не окунув меча. И на вопрос священника-миссионера: «Почему ты не смочил твоего меча?»
Вождь ответил: «Я крестился. Теперь я христианин. Я буду соблюдать Христовы заповеди, буду жить, как велит мне моя вера. Я стану добрым и справедливым, я буду всех прощать. Но меч мой… Но меч мой никогда не должен быть добрым к моим врагам! Он никогда не будет добрым к врагам моего племени – он не для того предназначен! Меч в моей руке для того, чтобы защищать меня и мое племя, и ему нельзя быть добрым, как мне. Мой меч никогда и никого не простит и всегда будет защищать мою землю и мой народ».
Однако, сила христианства не в интеллектуально—сакральной, эмоциональной эквилибристике милитаристскими словами и смыслами. Сила христианства во Христе и в том мире, который Он оставил своим верным друзьям. «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего…Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир даёт, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается» (Ин. 15:14; 14: 27).
Мировые военизированные процессы, идущие в настоящее время, однозначно говорят о приближении крупномасштабных военных конфликтов.
Глобальный управляющий класс через подконтрольные СМИ во всю развязывает милитаристскую истерию, разжигая в сознании людей взаимную ненависть.
Оруэлл предупреждал: «Цель войны всегда одна – улучшение позиций для развязывания следующей войны».
Сколько существует человечество, столько оно и воюет. Люди так и не научились решать конфликты мирным путем. По мнению части исследователей, с 3 500 года до н. э. произошло более 14 000 войн.
История человеческой цивилизации (сохраняемая в преданиях древности и памятниках письменности), изучаемая в школах и отраженная в произведениях искусства - это не столько история развития человеческой культуры, науки, религии, сколько история завоеваний, вторжений, побед и поражений. Не столько история достижений Духа и Разума, сколько история воинской славы или позора.
Вряд ли кто из здравомыслящих христиан считает, что война - это добро. Но сложность заключается в том, что осуждение войны и провозглашение важности мира (мы «за мир во всём мире»!), в реальности, не приносит практический результат. История гитлеровской Германии - яркий пример. Когда вооруженное противостояние становится данностью, а не просто философской концепцией, то многие христиане оказываются в мировоззренческом тупике. Многие не знают, что делать? Как поступать? Как смотреть с христианской стороны на ужасы происходящего?
Вот почему отцы Церкви, богословы, христианские мыслители и святые люди (как прошлого, так и нашего времени) пытаются найти ответы на эти тяжёлые вопросы:
-Как следует христианской Церкви смотреть на войну?
-Можно ли христианам служить в армии?
-Все войны одинаково несправедливы или некоторые могут быть справедливыми, а другие - нет?
Вопросов много … Как и решений.
Например, одно из таких решений показано в фильме Мэла Гибсона: «По соображениям совести».
В действительности, священнослужители не знают всех ответов, и я не исключение. Окончательную и решительную позицию для себя определяет сам христианин.
P/S. «Вопрос 1. Имеется канон Василия Великого, гласящий, что выходящие на войну, убивающие и убиваемые, да подлежат трехлетней епитимьи — одинакова ли должна быть епитимия, если это случилось (в войне) или с Турками, или с Венгром и Сербом?
Ответ: Если оба — враги и неприятель, никакого различия одному от другого.
Издаваемый ответ патр. Луки признает предполагаемую епитимию нормальною, не находя нужным допускать какие-либо разновидности этой епитимии при вероисповедном различии неприятелей, с которыми приходится воевать».
(А.И. Алмазов. Неизданные канонические ответы Константинопольского патриарха Луки Хризоверга и митрополита Родосского Нила . — Одесса, 1903, сс. 37-38.)
PP/S. Венгры — католики, сербы — православные, турки — мусульмане. Лука Хрисоверг — патриарх в 1155–1169 гг.