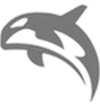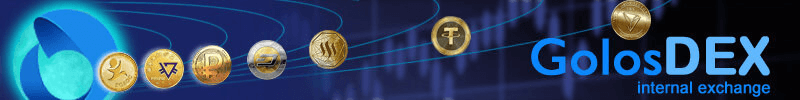(ЦУЛУКИДЗЕ Тамара Григорьевна, год рождения — 1903; арестована в январе 1937 г. ст. 58 пп. 6, 8, 11; срок — 10 лет. Освобождена досрочно в 1946 г. Повторный арест — август 1950. Места заключения и ссылки — Севжелдорлаг и Красноярский край.
Освобождена в 1955. Умерла в 1990 году).
Александра Васильевича Ахметели арестовали в Москве 19 ноября 1936 года и увезли в Грузию, где в ранге первого секретаря ЦК царствовал Берия.
Месяцем позже меня вызвали на Лубянку и велели ехать в Тбилиси "по делу вашего мужа". Я явилась в НКВД 28 января 1937 года к следователю Щекочихину.
Домой я уже не вернулась. В декабре 1988 года мне исполнится 85 лет. Жизнь клонится к закату. Нет уже ни физических, ни душевных сил восстанавливать во всех деталях тот путь в сталинских застенках, по которому я прошла.

Скажу коротко: нам "пришили" все самые махровые пункты 58-ой статьи — вплоть до покушения на Сталина. "Террористическая группа" в Театре Руставели! Всех мужчин расстреляли. В живых оставили только трех женщин, дали по 10 лет строгого тюремного режима.
Почти весь срок я отбыла на общих работах (лесоповал, каменный карьер). Дошла до состояния, которое в лагерном быту определяется термином "фитилек". Наконец слегла. Попала в больницу сангородка "Протоки". Продержали на койке два месяца, подлечили и выписали с диагнозом "затемнение в левом легком". Дольше не имели права держать ни при каких недугах. К счастью (по чьей-то доброй воле), никуда не
услали, оставили в сангородке.
Во всех лагерных больницах медперсонал состоял в основном из заключенных. Остро ощущался дефицит медсестер, медбратьев. Санотдел надумал организовывать тут же на месте трехмесячные курсы для среднего медперсонала. К моей радости я попала в списки. Неожиданно для себя проявила определенные способности к такому роду деятельности и по окончании курсов была зачислена в штат. Вскоре я была отмечена:
доктор Солодовников, главврач сангородка, прикрепил меня к корпусу тяжелобольных.
Сергей Александрович Солодовников — человек высокой культуры, москвич, большой любитель театра. Сам из театральной семьи. Сестра его, Е.Понсова, играла в Художественном, а позже в Вахтанговскомтеатре. Узнав из формуляра, что я в прошлом актриса, и будучи даже наслышан о театре Руставели, он проникся ко мне особой доброжелательностью. Часто заговаривал на театральные темы.
Я избегала этого: мне всякое напоминание о театре было в тягость.
Но вот однажды Сергей Александрович вызвал меня к себе и решительным тоном сказал:
— Вот что, уважаемая! Не в порядке приказа, но в порядке настоятельной просьбы: вы — актриса, организуйте нам какое-нибудь театральное зрелище! Спектакль, концерт — все равно! Моим подопечным — как больным, так и медперсоналу — нужна хоть какая-то отрада. Помогитемне! Я попыталась возразить.
— Никаких отговорок! От ночных дежурств я вас освобождаю. На день назначу в помощь опытного медбрата.

Ахметели А.В и Цулукидзе Т.Г.
Я не могла протестовать, так по-человечески, тепло он говорил со мной. Да и подневольное положение обязывало подчиниться.
На другой день я отправилась в КВЧ. Встретил меня весьма приятный, интеллигентный молодой человек. Представился: Линкевич Алексей Петрович. В прошлом — редактор ярославской областной газеты.
— Скажите, скетчи, пьески какие-нибудь у вас есть?
— Ни-че-го! Кроме нескольких брошюр по политграмоте.
— Весело! Что же делать?..
— Хотя позвольте... — спохватился Алексей Петрович, — была тут одна пьеса...
Покопавшись на полках среди плакатов и желтых от ветхости газет, смущенно протянул мне истрепанную книжонку без переплета. Я взглянула, и сердце сжалось: "Разлом" Лавренева! Вот так встреча!.. Моя юность — "Разлом"! Но в каком виде!
— Дикари дремучие! Повырывали листы на цигарки! — проворчал Линкевич, заметив мое смятение.
Я молча листала бедную, истерзанную чьими-то равнодушными руками книжицу, и перед моим взором вставала сцена театра Руставели — величавый апофеоз спектакля: под торжественные звуки "Интернационала" с высоты галерки стремительно неслось к сцене через весь зал, развеваясь над головами зрителей, ярко-красное шелковое знамя... Моя любимая роль! Ксения! Вот где довелось с тобою встретиться!
— Покажите мне сцену, — попросила я.
Алексей Петрович провел меня через узкий коридор в зрительный зал. Я оглядела довольно просторное сценическое пространство, глубокие карманы кулис, приличный занавес. Для лагерного быта совсем неплохой клуб.
— Будем ставить "Разлом"! — решила я.
Алексей Петрович оторопел:
— Ну что-о вы! Это не для самодеятельности. Да ведь и страниц чуть ли не половины не хватает...
— Я знаю всю пьесу наизусть. Восстановлю.
— Воля ваша, — пожал плечами Линкевич. — Как еще Евгения Ивановна на это посмотрит...
На другой день Евгения Ивановна Радзиевская — завкультчастью, вольнонаемная — сама пришла ко мне в корпус знакомиться. Сразу понравилась: энергичная, простая, без амбиции вольного человека перед зэка. Весело заявила:
— Я рада, что оживет этот мертвый клуб.
Моя затея с "Разломом" ее не удивила. Трудности не испугали.
— Все найдется, все сделаем, было бы только желание. Рубинер (начальник лагпункта) нам ни в чем не откажет. Вывесила объявление для желающих принять участие в самодеятельности.
Я засела за переписку пьесы. Алексей Петрович взялся расписать роли. Весь медперсонал охотно откликнулся на призыв. На первой же предварительной встрече было очень оживленно. Читка пьесы всех увлекла. Я приблизительно наметила исполнителей. Старалась подбирать по внешности. И оказалось, что не ошиблась. Менять никого не пришлось, к счастью, обошлось без обид.
На роль Ксении нашлась девица из бывших "урок" (некоторых имен я уже не помню), очень хорошенькая и врожденно талантливая.
Великолепный боцман Швач в исполнении Линкевича. Но самая удачная находка — на роль Годуна! — Бахчисарайцев. Бывший офицер царской армии, обрусевший чеченец или ингуш. Красивый, обаятельный. Он так вошел в роль, что мог бы играть ее на столичной сцене! Он один стоил всего спектакля! Правда, никак не мог выучить текст, напрасно я билась над ним, расстраивалась. А он смеялся: "Тамара Георгиевна,
милая, память у меня вышибли на допросах. Слава Богу, хоть не добили совсем. Да вы не беспокойтесь, на сцене не подведу!" И действительно, в самых ответственных местах он так темпераментно нес отсебятину на заданную тему, что даже искушенный зритель не смог бы уловить разницу с авторским текстом.

Ахметели А.В. Подписал декларацию о незпависимости Грузии. Расстрелян в 1937 году.
Репетировали мы каждый вечер после смены дежурств, в помещении КВЧ.1 (Культурно-воспитательная часть. — Прим. ред). Я все больше входила в азарт. Целиком во всех деталях: в трактовке пьесы, персонажей, в мизансценах — во всех подробностях повторяла постановку моего дорогого Сандро Ахметели. Может быть,
потому и получил такой резонанс этот лагерный спектакль.
Оформление сцены и весь антураж тоже оказались против ожидания довольно удачными. Лагерное начальство действительно помогло. За декорации всерьез взялся молодой хирург (как оказалось, еще и талантливый скульптор) Трофименко.
Мягкую мебель для столовой в доме Берсеневых соорудили в лагерной столярной мастерской, использовав для обивки списанные больничные одеяла темно-красного
цвета. Над круглым чайным столом (в первом акте) висел роскошный оранжевый абажур из крашеной марли, с кистями.
Слева у "стены" стояла напольная ваза с каким-то пышным тропическим растением, а справа у противоположной "стены" — высокая подставка со скульптурным изображением Будды (все из папье-маше, разумеется).
Костюмы для исполнителей принесла из-за зоны, собрав среди семейств вохры, наша милая Евгения Ивановна, — и самовар, и нарядный чайный сервиз.
Для второго и третьего акта построили из фанеры "броненосец" (в разных ракурсах). Это была уже заслуга заведующего каптеркой, милейшего человека по имени Янелло, в прошлом — инженера.
Второй акт. Массовка матросской сцены проходила очень живо, под "Яблочко". Четвертый акт звучал трагично. Финал вызвал аплодисменты.
Только эффект со знаменем мне не удалось повторить: галерки не было, потолок зала был низкий. Просто на вершине броненосца внезапно возникало ярко-красное знамя и развевалось "на ветру" (за кулисами двое юношей устраивали порывы ветра,размахивая фанерными листами).
Премьера прошла "на ура"! Соседние лагпункты, узнав об успехе спектакля, стали просить показать его у них. И мы месяца два возили его из одной зоны в другую и выслушивали благодарности.
Мои артисты становились с каждой репетицией все искреннее, увереннее, раскованнее, да просто талантливее!.. Откуда только что бралось? И ясама внутренне раскрывалась, увлекалась, радовалась, забывая о том, где нахожусь. Проходили дни, недели, все кружковцы собирались в клубе. Надо было чем-то заполнить длинные вечера.
И вот родилась идея. Кукольный театр! В поселке масса ребятишек. Как они рвались к нам на "Разлом"! Начальство не разрешило: "В зону?! Вместе с заключенными?! Не дозволено!"
— Я берусь лепить кукольные головки! — заявил Трофименко.
— Я берусь сочинять тексты по вашему указанию, — объявил Линкевич.
Евгения Ивановна поддержала предложение.
— Но как? — недоумевала я. — Мы же не знаем, как это делается. Я видела только эстрадные номера Образцова, в двадцатых годах он приезжал со 2-ой студией МХАТа в Тбилиси и приходил к нам в театр демонстрировать своих кукол. Это было совершенно изумительно! Но...
"Тут все начали фантазировать. Евгения Ивановна обещала съездить в Княж-Погост, достать какие-нибудь руководства, нужные материалы.
Владимир Дасманов, один из активнейших членов кружка, взялся писать музыку для детской программы. Пианист, знаток музыки, он до ареста работал в Москве в радиокомитете (В.Дасманов оставил подробные воспоминания об этом периоде своей жизни. Здесь я приведу некоторыеотрывки из них.)
Необходимо было придумать программу. Мне сразу же представился диалог между куклой и живым актером. Диалог по каким-то злободневным поводам, с использованием местного фольклора. Но детям этого мало. Им обязательно нужен сюжет.
Линкевич предложил инсценировать сказку в стихах "Кошкин дом". Сюжет детский — цензуре не к чему придраться. Предложение приняли.
Я попросила нашего скульптора сделать голову куклы "конферансье". Это должен быть мальчишка лет восьми, живой, обаятельный, с забавной смеющейся рожицей, весельчак и хохотун.
Роль Ведущей я взяла на себя. Нашего "конферансье" мы назвали Степкой.
Прошло недели две и Трофименко принес мне головку куклы. Чудесную мордочку с голубыми глазами (пуговички!) и рыжей растрепанной шевелюрой. Боже мой! Ну живой! Совсем живой! Сейчас заговорит! Не знаю, что со мной сталось: я не смела к нему прикоснуться.
— То, что надо! — тихо проговорил автор шедевра, увидев мое волнение. — Я угадал?
Я подошла к нему и нежно поцеловала в лоб.
Так родился Степка-конферансье — главный герой нашей кукольной программы, впоследствии прославившийся на весь Север.
Наш Степка имел настоящую человеческую руку, благодаря которой он мог курить папиросу, брызгать водой из спринцовки, указывать пальцем, грозить кулаком, брать любые предметы.
— Степку я никому не уступлю!.. Сам буду его вести! — заявил Линкевич и оказался прав: пробовали все по очереди, никто из других актеров не мог сравниться с его изощренной изобретательностью, с техникой владения куклы. За ним осталось первенство.

Т.Цулукидзе. 1925 год
Из воспоминаний Дасманова:... Лучшим кукловодом в нашем театре был Алексей Петрович Л. (В.Дасманов писал свои воспоминания в те времена, когда подумать было даже нельзя о таком сборнике — в 1948 г., поэтому фамилии не указал. — Т.Ц.). Едва он брал в руки куклу, как она сейчас же оживала в его руках. Но работал он с куклой всегда много и осваивал ее не сразу. Вспоминаю, как он, готовясь к роли
императора в "Соловье", осваивал первую тростевую куклу (до этого времени мы работали с пальцевыми куклами). Он буквально не выпускал куклы из рук.
Если он садился обедать, то кукла была с ним. Во время еды он то и дело брал ее в руки, и среди тарелок разыгрывал с нею различные сцены. Чтение книги тоже то и дело прерывалось диалогами с куклой.
Вообще Китайский император все время активно участвовал в личной жизни Л., вмешиваясь во все, что бы ни делал последний. Комично было наблюдать в это время за ними обоими:
— Ну вот, теперь мы будем бриться, — говорит Л., ставя на стол стакан с горячей водой и принадлежности для бритья. Слова эти обращены к кукле Китайского императора, которая сидит тут же на столе, прислоненная спиной к стеклянной банке. Л. перекидывает через плечо полотенце и подсаживается к столу. Через минуту раздаются звонкие удары и слова:
— Вот тебе, вот! Не лезь куда не следует! Что, обжегся? Ведь обжегся — конечно! Нечего трясти рукой! Не надо было лезть в горячую воду! И физиономию нечего воротить в сторону, я правду говорю! — это Л. прерывает на момент свое бритье, чтобы разыграть со своей куклой тут же пришедшую ему в голову сценку...
Итак, решено: ставим "Кошкин дом". И закипела работа. Делать простых пальцевых кукол мы уже умели. Лепил головки Трофименко. Все остальное свободное от дежурства время сидели в КВЧ, обклеивая глиняные головки мелкими клочками газетной бумаги, смазывая мучным клеем, потом из подсохших оболочек выскребали высохшую глину. Все остальное было опять-таки за Трофименко. Туловища к кукольным головкам приделывали и одевали кукол женщины.
Вскоре наш импровизированный "Кошкин дом" оброс новыми действующими лицами: курица с ведром, дед Сморчок, тетка Дарья.
Собственно, это был ряд отдельных эпизодов, которые вплетались в сюжет "Кошкиного дома", а в конце спектакля объединялись в одну общую сцену. Вспомнили песенку: "Тили-бом, тили-бом, загорелся Кошкин дом!" В момент пожара все персонажи бежали помогать Кошке гасить пожар, а она, бедная, плакала и причитала: "Помогите бедной Кошке! Я забыла на окошке свой заветный сундучок, а в нем медный пятачок. Мне и так жить нелегко, чем платить за молочко?"
На одной из репетиций Дасманов сочинил изящный вальс для домры с гитарой (пока у нас было всего два инструмента: гитара, на которой хорошо играл сам Дасманов, и домра — Туторский). Простенький, но удивительно мелодичный вальс! Услышав его, я подумала: "Почему бы не начать спектакль прологом? Я буду читать его перед ширмой под этот вальс!"
Идея понравилась всем. Линкевич сразу же принялся сочинять текст пролога. А завершался спектакль прощальной песенкой всех исполнителей с куклами в руках перед ширмой:
До свиданья, детвора,
куклам спать уже пора
Поскорей, без канители
Приготовим им постели!
и т.д.
Программа получилась на час с лишним. Нужно ли говорить, с каким восторгом она была принята истосковавшимися по развлечениям детьми поселка! Мы повторили ее несколько раз на своей колонне.
Приходили и взрослые, вохровское начальство с женами. Начальник нашего лагпункта Рубинер так расчувствовался, что даже премировал участников спектакля в день премьеры "усиленным питанием": по окончании спектакля нас привели в столовую, усадили за стол, накрытый скатертью, и выдали всем по полной тарелке винегрета и чай с настоящими пончиками.
Мы уже подумывали о новой программе, как вдруг пришел приказ: прислать наш театр в Княж-Погост. Княж-Погост — столица. Там находилось Управление строительства Северной железной дороги (до Воркуты) и управление нашей санчасти. Там был большой настоящий театр (Дом культуры), куда нередко приезжали на гастроли столичные артисты.