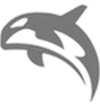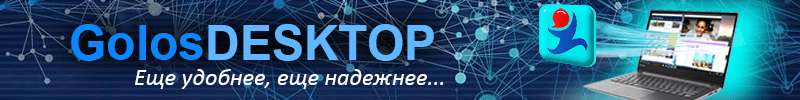Огромная сцена театра залита ослепительным светом. Электротехники по указаниям нашего осветителя Янелло заканчивают регулировку света. За огромным бархатным занавесом на сцене стоят наши скромные ширмы. Они кажутся такими маленькими на этой большой сцене, теряющейся где-то вверху, в темных колосниках.
Оркестр проверяет строй инструментов. Сегодня Дасманов усилил оркестр еще одной гитарой и флейтой.
На сцене обычная, такая знакомая по прежней жизни суета. Из зала слышится глухой сдержанный шум публики. В нем чувствуетсякакая-то важность, холодность, враждебность. Я подхожу к занавесу и через дырочку смотрю в зал. Блеск погон, светлых пуговиц, нарядных туалетов ослепляет меня. Чужой мир... Как мираж!..

Третий звонок. На сцену выходит наша заведующая культчастью и коротко рассказывает о том, как возник театр.
Два удара гонга... Музыканты выходят, занимают свои места перед занавесом. Звучит наш серебристый звоночек. Оркестр начинает вступление.
Я вылетаю на сцену. Я в черном бархатном платье, в лакированных французских туфельках на высоком каблучке. Это мама мне прислала из дому. В правой руке в такт музыке покачивается надлинной резинке белая фигурка Пьеро...
Я произношу первые слова пролога: "Вот причудливые куклы!.." Сердце стучит отчаянно, как никогда. Движения ярче, жесты шире! Я ли это? Что со мной сталось?
Неужели магия большой сцены все еще жива во мне? Значит, артистка не совсем угасла? Публика слушает, затаив дыхание.
...Пусть веселый этот вечер
Вас от будней отвлечет!
У фарфоровых сердечек
Каждый сердцем отдохнет...
— заканчиваю я последние слова пролога. Вдруг чей-то мужской голос из публики в первом ряду громко и весело произносит: "Браво-о!" — и вслед за этим раздается дружный взрыв аплодисментов. Пролог принят!
Но вот на грядке появляется Степка, в зале смех и снова всплеск аплодисментов. И весь наш шуточный диалог — на сплошном хохоте! И дальше спектакль идет с обычным успехом.
Потом к нам за кулисы приходят какие-то военные, железнодорожное начальство с женами. Рассматривают кукол...
На другой же день начальник Управления Севжелдорлага полковник Шемена пригласил меня к себе в кабинет. Стал расспрашивать, кто я и что я... Я стала называть свои статьи, он прервал меня:
— Ваш формуляр лежит у меня на столе. Мне это не нужно. Я видел вас вчера на сцене. Хочу, чтобы вы организовали нам профессиональный кукольный театр. С детьми беда! И в Княж-Погосте, и по всей трассе сотни ребятишек слоняются по улице, хулиганят. Кого мы из них вырастим?
На прощанье он даже сделал мне комплимент, довольно неловкий:
— Вчера вы были великолепны в этом бархатном платье. Откуда оно? Я рассмеялась:
— Откуда же оно может быть, гражданин начальник? Я же не "урка", я — "пятьдесят восьмая"! Мама прислала из дому.
Со слезами прощалась с товарищами, уезжая из Сангородка. Из прежнего драмкружка сохранились только трое: Дасманов — композитор, музыкант-домрист Туторский Борис Николаевич (впоследствии он сделался нашим администратором и зав. постановочной частью) и наш автор, он же неизменный исполнитель роли Степки — Линкевич.
Трофименко не поехал, отказался изменить своей основной профессии хирурга. Остальных мы должны были набрать.
Конечно, найти на Севере людей, знакомых с кукольным делом, было сложно. Мы просто выискивали молодых, немного умеющих петь, с музыкальным слухом,
ритмичных.
Нашли талантливого скульптора-художника Вениамина Эдельгауза. С ним нам действительно повезло, хотя впоследствии он мне много крови попортил своим скверным, взбалмошным характером.
Сначала думали ограничиться небольшим составом, человек в восемь. В первую детскую программу целиком вошел наш прежний монтаж; к нему прибавили несколько новых номеров. Во-первых, был сделан небольшой номер для детей "Кем я буду" на тему известного стихотворения Маяковского. Затем инсценировали восточную сказку Маршака "Мельник, мальчик и осел".
Программа была готова к октябрю 1943 года. Мы показали ее в детском саду, потом ученикам младших классов. Спектакли были одобрены. И в ноябре мы выехали в первую гастрольную поездку. Играли в детских садах и школах, в избах-читальнях.
Обычно для экономии места все стояли, а передние ряды сидели на полу. В некоторых местах электричества не было, играли при керосиновых лампах, при свечах и даже при лучинах.
Играли мы и в больших городах, таких как Великий Устюг, Котлас, Ухта, Яренск, Сольвычегодск. Везде публики было полно, и мы привыкли к аншлагам. Привыкли играть при разной температуре, от тропической до полярной.
Помню, в одном большом клубе я, предварительно извинившись перед публикой, читала пролог в валенках и меховом полушубке. А на сцене — хоть на коньках катайся! — уборщица перед спектаклем вымыла пол, и он покрылся толстым слоем льда.
В конце февраля мы возвратились в Княж-Погост и привезли несколько
тысяч чистой прибыли.

Нашим непосредственным начальством являлся Николай Васильевич Штанько. Так что все свои действия по вопросам театра я согласовывала с ним. И надо сказать, он очень покровительствовал театру.
К концу войны из Германии шли на Север целые составы, груженые награбленным добром. Штанько вызвал меня и художника Эдельгауза: "Прибыл состав сбарахлом! Идите выбирайте, что вам надо".
И мы шли, копались в закрытых вагонах, битком набитых рулонами тканей, бархата и шелков, видели даже огромный оранжевый плюшевый театральный занавес и множество содранных с кресел плюшевых обивок, костюмы из каких-то постановок... Эдельгауз восторгался обилием всякого рода красок, разбавителей, кистей, каких-то только ему понятных материалов, вроде листов плексигласа: "Это же чудо, какие декорации из этого можно сделать!" И действительно, оформление новых постановок получалось у него удивительно красочным.
Для новых постановок требовалось более свободное пространство. Новые ширмы прибавили по бокам основной ширмы еще два длинных крыла и удобную подставку для задника. На этом заднике за полупрозрачным экраном вихрем носилась среди "облаков" вся в ярко-красных газовых струях моя любимая кукла Баба Яга (я ее вела в спектакле "БогатырьГора"). Эту пьесу пришлось поставить по настоянию Штанько. Он
почему-то считал ее весьма воспитательно полезной для детской и сельской аудитории.
Вопреки ожиданию, постановка имела большой успех. В одной из поездок у нас даже украли мою Бабу Ягу. Насилу отыскали ее в мусорном ящике, всю ободранную. Пришлось делать заново. Украл ее какой-то мальчик-шизофреник.
Мне хочется рассказать о моем самом любимом и самом удачном спектакле — "Соловей" Андерсена. Тростевая система давала актерам возможность мастерски утонченной работы с куклами, предельно выразительной, четкой, эмоциональной. Тут должны были проявляться истинные таланты и режиссера-постановщика, и актеров-кукловодов.
Мы еще не знали, как все это воспримет взрослая публика. Вот почему мыпрежде всего решили показать нашу новую работу в закрытом спектакле только для сотрудников Управления нашего строительства. Спектакль мы дали в нашем клубе 14 мая 1944 года (я суеверно приурочила его к дню моих именин!..). И этот день стал действительно праздником!
Я — Ведущая в стилизованном китайском наряде и гриме — стояла перед ширмой с огромным веером, которым прикрывала смену декораций на крыльях ширмы, переходя в ритме музыки от одного крыла к другому. Я была в ударе и поистине вдохновенно читала текст сказки, а на ширмах разыгрывалось действие.
Совершенно изумительно играл императора Алексей Линкевич, трогателен был мальчик с фонарем в исполнении Миры Гальперн. Чудесно звучала музыка Дасманова. В финале спектакля за кулисами звучал хорал... На его фоне я произносила последние слова андерсеновской сказки: "Это было в Китае, где все люди китайцы и император у них тоже китаец!.."

По случаю успеха нашего нового спектакля в честь моего тезоименитства актеры устроили мне в складчину маленький банкет в нашей кукольной мастерской. Произносили тосты, поднимая стаканы с клюквенным морсом, который доставила нам из-за зоны наша милая Евгения Ивановна, придумывали экспромты...
Однажды в Ухте во время вечернего спектакля я вдруг на сцене потеряла сознание. Опустили занавес, подняли меня, перенесли на кушетку. Играть в этот вечер я уже не могла. Евгения Ивановна вышла к рампе, объявила, что спектакль переносится на завтра. На другой день по окончании спектакля мне на сцену подали небольшую плетеную корзину, украшенную осенними листьями со всякой снедью внутри.
Потом пришли за кулисы двое (от грузин-зэка) с просьбой принять их подарок,
собранный из посылок. Я была тронута до слез.
Мне так жаль, что я не спросила фамилии этих славных людей! Может быть, кто-нибудь из них еще жив и прочтет эти строки... вспомнит иузнает, каким теплым светом озарило мне душу их братское внимание.
Я рассказывала уже о наших спектаклях в школах и детсадах для вольнонаемного населения, где нас встречали с шумным восторгом и провожали с просьбами приезжать почаще.
Но ведь были на нашем пути еще другие детсады и ясли, где содержались грудные младенцы и ребятишки, имевшие несчастье родиться в лагерях.
Обычно кормящих матерей направляли в определенные лагпункты, где имелись специальные детские учреждения для ребятишек уголовниц или зэка 58-ой. Тут не делали различия, содержали их в одинаковых условиях.
Кормящим матерям давали работу тут же в зоне или поблизости, чтобы в перерыве во время работы они могли сбегать в ясли.
К подросшим уже малышам матерей допускали на свидание только в определенные дни. Потом детей отсылали из лагерей, распределяя их по детдомам по всей стране. Спустя некоторое время матери давали знать, куда, в какой детдом сдан ее ребенок.
Навсегда осталось в памяти потрясение, испытанное мной в одном таком детсадике, куда мы приехали во вторую свою гастрольную поездку.
Зима 1944 года. Во-первых, сам убогий барак, где в узком коридоре в тесноте толпились ребятишки, какие-то все одинаковые, со стрижеными наголо головками, в серых халатиках — худенькие, хмурые, пугливые, замкнутые. Ни беготни, ни детского гомона, ни смеха. Они только молча таращили глаза на чужих людей.
Мы приехали в полдень. Детей увели обедать. Я попросила заведующую (вольнонаемную) показать мне комнату, где дети играют, какие у них игрушки. Она даже удивилась:
— Вот тут и играют. Где же еще? Больше негде — только столовая и спальня. А игрушек настоящих у них нет. Откуда же быть им? Если только мамка какая принесет самодельную...
Откуда-то достала и показала мне сшитое из лоскута уродливое чучело.
— А летом во дворе играют в песочнице, — и, словно оправдываясь, добавила: — Зато у нас их неплохо кормят... и моют... Чистенькие они.
Привели детей парами, усадили на полу перед ширмой. Тесновато! Пришлось отодвинуть ширму дальше. Пока мы управлялись с перестановкой, все та же тишина, ни звука. А ведь сидит с полсотни малышей!
Мы решили не давать пролога и конферанса Степки. Не поймут. Только пьески: "Петрушка и Дружок" и "Полянку" Нины Гернет, прелестную вещицу, всю на музыке построенную. Она для самых маленьких.
Начали! Музыкальное вступление... Не шелохнутся, только головки повернули туда, откуда доносились звуки гитары и домры. На появление Петрушки не реагируют. Но стоило на грядке показаться собачке Дружку и залаять, как испугались, переполошились, передние заплакали, за ними — остальные. Поднялся такой всеобщий рев, что уже ни слов, ни музыки слышно не было. Пришлось прервать спектакль.
Что делать? Почему они испугались? Да потому, что они никогда собак не видели!
В лагерной зоне ни собак, ни кошек не держат! Если ненароком откуда-то забредет, вмиг пристрелят. Что делать? Как их утихомирить? Я надела на руку пальцевую собаку Дружок и вышла с ней к детям из-за ширмы. Попыталась объяснить, что это не живое чудовище, а просто кукла. Рев усилился, зашлись прямо-таки до истерики.

Кукольный дом Т.Цулукидзе
Вскоре случилось происшествие, надолго изменившее многое в нашем лагерном быту. Из какой-то передвижной агитбригады, обслуживавшей не только лагпункты, но и вольное население, сбежали двое актеров (зэки, конечно).
Нашли их или не нашли, не знаю. Но для нашего театра факт оказался убийственным. Из центра пришел приказ по всем лагерям: прекратить обслуживание агитбригадами вольного населения. Пусть, мол, играют для работяг в пределах зоны. Высокое начальство решило: "Кукольное дело — сугубо детское мероприятие, а в зоне детей нет, так что кукольный театр закрыть совсем!"
Все пребывали в шоке — ждали общих работ. Штанько вызвал к себе в политотдел Гавронского, Еврухимовича и меня и объявил: поскольку в коллективе кукольного театра есть несколько действительно полезных людей (он так и сказал, "полезных"),
его надо отчасти сохранить, пополнив новыми актерами и певцами.
Для этого — поделить Центральную агитбригаду надвое: джаз оставить под управлением Еврухимовича, а вместо кукольного театра создать крепкий театрально-концертный коллектив под управлением Цулукидзе.
Таким образом, лучшие певцы должны были перейти от Еврухимовича ко мне:
Головин (баритон), Аллилуев (тенор), Сланская (сопрано) и еще кто-то, не
помню.
— И начинайте работать! Каждый номер концертной программы согласовывать со мной! Гавронский вам поможет на первых порах, а потом справитесь сами! — добавил он, глянув на мое растерянное лицо.
Я действительно была совершенно растеряна. Но прошло некоторое время и я освоилась.
Ставила скетчи, водевили. Во втором отделении — концертные выступления: чтецы — Линкевич, Юхин и, конечно, певцы, замечательные певцы!.. Помню, стоят на сцене Головин и Аллилуев,дуэтом исполняют знаменитую в те военные годы "Темную ночь": "Знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь...» А я сижу за кулисами и рыдаю, не в силах справиться с собой.
В конце 1946 года меня освободили на год раньше срока "за успешную культурную работу". Так значилось в приказе.
В августе 1950 года меня снова арестовали (по старому делу!) уже в Курске, где я с трудом устроилась на работу в кукольный театр (очень, кстати, плохой). Продержали в тюрьме на допросах полгода, стараясь"пришить" какое-нибудь новое "дело", но, не найдя ничего, приговорили к ссылке в Красноярский край "на вечные времена"!
Когда же наконец умер "отец всех народов", меня освободили. Реабилитировали "за отсутствием состава преступления". Вновь пригласили в Театр Руставели. Там я заново (спустя двадцать лет) дебютировала — в роли матери Ленина в пьесе "Семья".
Сентябрь-октябрь 1988 года.