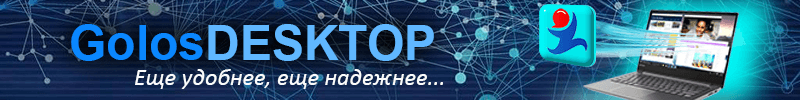Продолжение истории. Предыдущая часть тут.

Кого ни почитай, все в унисон пишут об отсталости, причём даже в отношении выдающейся из общего ряда Пруссии: «Социально-политический строй Германии тридцатых годов был до крайности отсталый по сравнению с «западными странами» – Англией и Францией. В политической области в ней ненарушимо царил ещё абсолютизм, имевший к тому же несколько десятков филиальных отделений в виде бесконечного числа отдельных микроскопических государств. Не менее отсталой была Германия тридцатых годов и по своему социально-экономическому развитию. Капиталистическое производство едва только назревало, господствующая же роль принадлежала мелким формам самостоятельного производства и ремеслу. Социальные взаимоотношения различных классов отличались патриархальностью и благодушием. Пролетариат был ещё очень малочислен и не порвал ещё своей связи с мелким производством и землёю». Это строки, принадлежащие перу одного из ранних биографов Маркса. Как тут, спрашивается, не вспомнить бессмертное:
Опять же, смертность смертности рознь: для оценки уровня социально-экономического развития той или иной страны традиционно используются показатели детской (до пяти лет) и младенческой (до года) смертности (ситуация по которым, к слову, несколько позже рассматриваемого периода, в третьей четверти XIX ст., в России была значительно хуже, чем в Великобритании, Франции и Пруссии: так, в Шотландии в 1865 – 1875 гг. на каждых 100 живорождённых детей приходилось в среднем 23,7 умерших в возрасте до 5 лет, в Англии в 1866 – 1878 гг. значение этого показателя составляло 25,1 человек, во Франции в 1873 – 1878 гг. – 25,0, в Пруссии в 1866 – 1879 гг. – 33,4, а в Европейской России в 1867 – 1875 гг. – 42,5!). Но с этими показателями в нашем примере как раз и проблема: даже в рамках отдельно взятой немецкой семьи имеем один случай смерти в возрасте до пяти лет (сын Мауриц Давид, умерший в трёхлетнем возрасте) и ни одного случая смерти в младенческом возрасте!
«Позвольте, – скажет внимательный читатель, – но ведь был ещё и лондонский опыт!». И в самом деле, за три с лишним десятилетия своей жизни на Британских островах Карл и Женни Маркс лишились четырёх детей, причём трое из них умерли в младенческом возрасте (сын Генри Эдвард Гай и дочь Женни Эвелина Франциска – в возрасте около года, ещё один ребёнок, пол которого остался для потомков неизвестным, умер, едва успев родиться), а сын Эдгар – когда ему было 8 лет. Чем не пример жуткой младенческой смертности? Но что из него следует?
То обстоятельство, что дети в семье Карла Генриха мёрли, аки мухи в конце лета, было следствием действия нескольких факторов. Первый – это, конечно же, низкий уровень семейного благосостояния, который был характерен для первых лет британской эмиграции Маркса: жизнь в долг и постоянное ожидание очередного «денежного перевода» от Энгельса не способствовали формированию крепкой иммунной системы у детей, да и родители их постоянно болели (того же Карла, кроме вполне понятных хворей навроде болезни печени и болезни глаз, постоянно доканывали фурункулы и ещё целый букет больших и малых болезней). Второй – сама по себе среда обитания не позволяла родителям рисовать в мечтах какие-то уж совсем радужные перспективы в отношении здоровья и долголетия собственных чад. Чтобы было понятнее, о чём идёт речь, пожалуй, стоит напомнить шановному панству, об эпидемии холеры, охватившей Сохо – один из районов Лондона – в сентябре 1854-го года и вошедшей в историю под названием вспышки холеры на Брод-стрит. Тогда за десять дней эпидемия унесла жизни пятисот человек, всего же список её жертв насчитывал 616 имён.





.jpg)