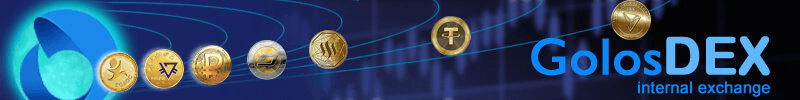Как и когда крестилась древняя Русь? Ч 1
Как и когда крестилась древняя Русь? Ч. 2

Среди памятников древнерусской церковной литературы, сохранивших для нас свидетельство о начальной этапе Русской церкви: "Память и похвала" мниха (монаха) Иакова, известна скорее специалистам, чем широкой публике. Подлинность этого исторического документа, одно время вызывала сомнение исследователей, поскольку история принятия христианства князем Владимиром, изложенное в нем, явно противоречит устоявшемуся взгляду на это событие.
Однако, изучение историками "Памяти…", сравнение его с другими текстами, на сегодняшний день, позволяет установить принадлежность этого документа к древнейшему периоду русской письменности (70-годы XI века) и, следовательно, мы имеем повествование, в котором история Крещения Владимира выглядит совершенно иначе. Все это указывает на то, что в древности не существовало единого представления о крещении Руси, как и о самой личности Владимира. Те ученые, которые не сомневаются в подлинности этого текста (А.А. Шахматов, Н.И. Серебрянский и др.) предполагают, что автор "Памяти…" может быть пресвитер Иаков, пришедший в Киево-Печерский монастырь "с Альты вместе с братом своим Павлом" и которого св. Феодосий Печерский перед своей смертью хотел назначить своим преемником. Чем же концепция "Памяти…" отличается от летописи? Прежде всего, бросается в глаза официальное представление о князе Владимире, как о жестком правителе-язычнике.
Как известно, древнерусский летописец, характеризуя Владимира, пишет о нем, как о типичном князе диких варваров. Далее, он описывает не только попытку Владимира создать языческий пантеон богов, но и о принесении им перед древними идолами человеческих жертвоприношений: "И оскверняху землю требами своими". Подчеркивая разнузданно-похотливый характер князя, летописец упоминает о том, что Владимир имел 300 наложниц в Вышгороде, 300 в Белгороде и 200 в Берестовом селе. Все эти неприглядные факты позволяют летописцу нарисовать перед просвещенным читателем картину человека не только кровожадного, но и побежденного необузданной похотью, что с точки зрения христианства представляется "смертными грехами". В ПВЛ под 938 годом читаем: "идее Владимир на ятвягы, и победи ятвягы и вся землю их. И идее к Киеву и творящее требы кумирам с людьми своими". Как видим поход был успешен, как и то, что помимо богатой добычи было захвачено много пленных, часть из которых по возвращении в Киев, князь принес в жертву (?). Именно так позволяет думать применяемый в данном контексте, летописцем термин "треба", который в другом тексте напрямую связан с человеческими жертвоприношениями: "И жряху им, нарицающе я боги, и привожаху сыны своя и дщери, и жряху бесом".
Но так ли это? К счастью, мы имеем иное представление о князе, помимо летописного. Оно было изложено митрополитом Илларионом (1005-1054 гг.) в его "Слове о Законе и Благодати", а также автором "Памяти и похвалы". В русской версии Владимир показан не только иным человеком, но и сам факт его крещения (которое произошло не в Херсонесе) рисуется как акт его воли и достаточно тонкого душевного настроя князя (в его естественном пути к Богу), а также чистым личным призывом Последнего (в отличие от утилитарно-прагматического мотива женитьбы на царевне Анне). "Также и я худый монах Иаков, слыша от многих о благоверном князе Владимире всея Русской земли, сыне Святослава, и немного собрав от многих тех, добродетели его описал, и о сыновьях его, то есть святых и славных мучениках Борисе и Глебе, как просветила Благодать Божия сердце князю русскому Владимиру, сыну Святослава и внука Игоря, и возлюбил его человеколюбивый Бог, хотящий спасти всякого человека (чтобы ему) в разум истины прийти – и возжелал святого Крещения и Бог исполнил желание его".
Началом научного изучения летописного сообщения о Крещении Руси стали работы видного филолога и знатока древнерусской письменности А.А. Шахматова. Положив в основу своих изысканий лингвистико-литературный анализ летописных текстов, он пришел к ряду важных выводов до сих пор сохраняющих актуальную ценность и в целом принимаемых современной исторической наукой. Согласно Шахматову, в XI веке было известно два сказания о крещении Владимира. Ни то, ни другое в первоначальном виде до нас не дошло.
В одном из этих сказаний утверждалось, что Владимир был обращен в христианство "греческим философом", посетившим князя в Киеве. Но в этом сказании есть непонятный момент. Речь идет о том, что согласно повествованию в 986 году к князю пришли миссионеры из разных стран и вероисповедований с предложением принять именно их веру. Последним, является греческий философ, который не только блестяще разгромил своих оппонентов, но убедил Владимира в истинности именно православного вероисповедания. Однако, совершенно не понятно, почему только в следующем 987 году князь рассказывает об этом эпохальном событии своим "боярам и старцам" и по их совету отправляет посольство. Во втором же сказании, речь идет о крещении Владимира в Корсуни. Видимо, только впоследствии, оба этих повествования вошли летопись, составленную в 90-х годах XI века и получившую название "Начального свода" и уже из него без критического осмысления и изменения перешли в ПВЛ.
Известно, что первый из летописных рассказов "Речь философа" является переведенным с греческого, памятником древнеславянской письменности и имевшим достаточно широкое употребление в Моравии и Восточной Болгарии аж в IX-X веках. На Руси он стал известен не позднее XI века, когда и вошёл в состав наших древних летописных сводов. Я не собираюсь детально разбирать исторический багаж связанный с этой туманной и отчасти спекулятивной темой, а постараюсь проследить суть этих сказаний, которые и помогут нам вскрыть идейный смысл заложенных в них противоречий. Итак, начнем с греческой версии.
КОРСУНЬСКАЯ ЛЕГЕНДА

Осада и захват киевским князем Владимиром византийского города Херсонес в Крыму в 988 или 989 году
Как известно, введению христианства на Руси предшествовала смелая попытка князя Владимира не только реформировать язычество, но и унифицировать древний культ (оформив его в единый пантеон богов). В исторической литературе нововведение Владимира толкуется как проявление фанатичной приверженности князя к язычеству. Однако, ещё в дореволюционной науке было обращено внимание на политическую подоплёку реформ Владимира. Е.В. Аничков, написавший интересную книгу о язычестве в Древней Руси, усматривал в действиях Владимира свидетельство превращения князя и дружины в государственно-политическую власть! В следствии чего Перун резко приобрел «широкое государственное значение». Собранные вокруг Перуна боги символизировали единение различных племен в рамках одного государства под главенством Киева. Идея о политической направленности языческой реформы Владимира — ценное достижение исторической науки. Она является первостепенной при рассмотрении вопроса о религиозной деятельности князя Владимира, включая и учреждение им христианства на Руси, поскольку существует несомненная логическая связь между его языческими преобразованиями и крещением. "Постави кумиры на холме вне двора теремного: Перуна деревяна. А главу его сребрену, а уст злат, и Хърса, Даждьбога, и Стрибога, и Симаргла, и Мокошь. И жряху им, наричюще я боги", – пишет летописец. Было это по летописной датировке в 980 году.
Стремление киевской знати превратить свой город в религиозный центр выражается и в том, что языческое капище с изваянием Перуна, размещавшееся первоначально в черте древнейших укреплений Киева, выносится на новое место, доступное для обозрения всем прибывающим в столицу полян. "Перун предстал в окружении богов других племенных объединений, символизируя их единство с Киевом. Столица полян, следовательно, претендовала на роль религиозного центра восточного славянства. Опыт Владимира оказался безрезультатным… Причина княжеской неудачи крылась в исторической необратимости разложения родоплеменного строя, что делало неизбежным падение союза племен под гегемонией Киева. Владимир ищет новую опору власти над покоренными племенами и находит её в христианстве". /И.Я. Фроянов/.
Однако, это была уже запоздавшая религиозно-идеологическая мера, посредством которой Владимир попытался удержать политическую власть над покоренными племенами и остановить начавшийся распад грандиозного союза славянских (и не только) племен во главе с Киевом.
В предыдущих частях, я говорил о том, что для начального становления Русской государственности, а также самосознания молодого и, самое главное, многоплеменного этноса – язычество в своей фундаментальной вариативности, представляло тормозящий фактор.
Случилось так, что в 986 г. или в 987 г., точный срок мы имеем только в учебниках, соправители-императоры Византии Василий II и Константин, находясь в очень тяжелом положении, обратились к князю Владимиру за военной помощью. Ещё в августе 986 года их войска были разбиты воинственными болгарами. В начале 987 г., амбициозный полководец Варда Склир с арабами вошел в пределы империи. Посланный против него полководец Варда Фока не только поднял мятеж в войсках (овладев Малой Азией), но и провозгласил себя новоиспеченным императором. В 987 году Фока осаждает Авидос и Хрисополь, со стратегическим расчетом на создание дальнейшей блокады вокруг Константинополя. В этом же году был заключен договор о военной помощи Византии со стороны Руси, и Владимир отправляет свое грозное войско в распоряжение империи. Логично предположить, что только после этого он мог с большим основанием требовать исполнение Византией своей части договора – выдать за него сестру императоров Анну. Арабский историк Эль Макин подтверждает это предположение. Более того, византийская хроника Кедрина сообщает (в промежутке между 987-989 г.г.), что император: "успел призвать (русских) на помощь и сделать их князя своим зятем, женив его на сестре своей Анне".
Далее, мы имеем очень любопытный источник, говорящий не только о численности посланных Владимиром войск, но и упоминающем одну очень важную деталь ("Всеобщая история Степаноса Таронского, Асохика, по прозванию Таронаци"). Степанос, описывая произошедшее в военном лагере Василия столкновении между иверийцами и рузами, говорит следующее: "Тогда весь народ Рузов, бывший там, поднялся на бой. Их было шесть тысяч человек пеших, вооруженных копьями и щитами, которых просил царь Василий у царя Рузов в то время, когда он выдал сестру свою замуж за последнего. В это же время Рузы уверовали во Христа". По смыслу текста совершенно очевидно, что принятие христианства князем и возможно войском произошло "в то самое время", когда Византия попросила помощи у Владимира, то есть до поражения Варды Фоки. А произошло это 13 апреля 989 года.
Итак, при заключении договора об оказании военной помощи Византийской империи, русские поставили свое условие – выдать замуж за своего князя царевну Анну. Неслыханное по тем временам условие – как по своей дерзости, так и по религиозному представлению византийцев, было принято. Дело в том, что по тогдашним обычаям, византийские царевны не выдавались замуж за представителей варварских народов (ох, уж эти горделивые греки), даже если те были христианами. Дед Анны, император Константин Багрянородный написал для сына в 949 году трактат «Об управлении империей», в котором выразил отношение правителей Византии к династическим бракам с варварскими северными народами, в числе которых он указал и русов: "Если когда-либо народ какой-нибудь из этих неверных и нечестивых северных племен попросит о родстве через брак с василевсом ромеев, то есть либо дочь его получить в жены, либо выдать свою дочь, василевсу ли в жены или сыну василевса, должно тебе отклонить и эту их неразумную просьбу ... Поскольку каждый народ имеет различные обычаи, разные законы и установления, он должен держаться своих порядков и союзы для смешения жизней заключать и творить внутри одного и того же народа". Исключение Константин Багрянородный сделал для правящих домов западной Европы (франков). Известно, что даже сыну короля Германии Оттону I Великому было отказано в руке той же самой Анны. Согласиться на условие русов императоров могли подвигнуть только очень серьёзные обстоятельства, о которых говорилось выше. Но даже в этой критической ситуации императоры не спешили с выполнением данного условия договора, используя известный предлог: "Не пристало христианам выдавать жен за язычников".
Владимир, чувствуя себя обманутым, не спешил с выполнением второго условия договора – креститься. Начались препирательства, нашедшие отражение в нашей летописи и составившие ядро КОРСУНЬСКОЙ ЛЕГЕНДЫ. Владимир настаивал на том, чтобы сначала прислали Анну. А потом он крестился. Константинополь добивался обратного: "Крестись, и тогда пришлем сестру свою к тебе". В такой обстановке Владимир прибегает к единственному способу – к силе. Он нападает на крымское владение Византии – Херсонес (Корсунь). Причем делает это в разгар войны с Фокой! Интересно, что византийские источники ничего не говорят о внезапном нападении князя русов на этот прославленный и богатый город. Пожалуй, только в хронике Льва Диакона (X век) есть смутное (возможно и спорное), но для нас примечательное замечание. Описывая необычные небесные явления (яркую звезду и "огненные столбы". Эта была комета Галлея, а "огненные столбы" – отсветы северного сияния, которые иногда наблюдаются в южных широтах), наблюдавшиеся в Константинополе в 989 г., он пишет: "И другие тягчайшие беды предвещал восход появившийся тогда звезды, а также напугавшие всех огненный столбы, которые показались вдруг поздней ночью на северной части неба; они предсказывали взятие тавроскифами Херсонеса и завоевание мисянами (болгарами) Верреи". На основании этого свидетельства делается вывод о том, что Владимир взял Херсонес после 26 октября 989 года. Перед взятием города, оказавшимся возможным благодаря предательству корсунянина Анастаса, Владимир воскликнул: "Если сбудется это - крещусь". Ультиматум Владимира в Константинополе были вынуждены принять ещё и потому, что в то время вблизи столице находилось 6.000 русское войско. Веский аргумент. При этом, Владимир должен был очень точно рассчитать свое внезапное нападение на город, а именно в самый критический момент борьбы между императорами и Фокой, т.е. до 13 апреля 989 года.
С плачем царевна попрощалась с близкими, говоря: "Иду, как в полон, лучше бы мне здесь умереть". Решающим доводом для царевны послужили замечательный слова, влагаемые летописцем в уста Василия и Константина: "Может быть, обратит тобою Бог русскую землю к покаянию, а Греческую землю избавишь от ужасов войны. Видишь ли, сколько зла наделала грекам Русь? И едва принудили её. Она же села в корабль с плачем и отправилась через море. И пришла в Корсунь". Арабский историк XI века Абу Шоджа ар-Рудравери поддерживает версию летописи о решающей роли Анны в крещении князя Владимира: "Женщина воспротивилась отдать себя тому, кто расходится с нею в вере. Начались об этом переговоры, которые закончились вступлением царя русов в христианство". По прибытию в Корсунь Анна узнала, что её жених сильно разболелся глазами, ничего не видел и сильно скорбел. И послала к нему царица сказать, чтобы он скорее крестился: "если же не крестишься, то не избежишь недуга своего". Услышав это, Владимир сказал: "Если вправду исполнится это, то велик Бог христианский", и повелел крестить себя. И когда возложил епископ на него руки, тотчас же прозрел Владимир. "Крестился же он в церкви святого Василия, а стоит церковь та в Корсуне посреди града, где собираются корсунцы на торг; палата же Владимира стоит с края церкви и до наших дней, а царицына палата – за алтарем".
После крещения тут же совершили по христианскому обряду бракосочетание. Вернув Корсунь Византии, князь Владимир с Анной возвратился в Киев, где приступил уже к крещению всего народа. Сирийский историк XI века Яхъя Антиохийский заметил, что Анна активно участвовала в распространении православия на Руси: "построив многие церкви". В церковном уставе Владимира говорится о том, что князь советовался с женой в делах церковных: "сгадав аз с своею княгинею Анною". Анну в летописи именовали не как обычно — княгиней, но царицей, сохраняя за ней достоинство члена императорской семьи.
Этот известный рассказ, как впрочем и сама летопись, появились не ранее последней четверти XI века, т.е. через столетие после описываемых событий. Но есть и другая версия. К рассмотрению последней, мы и приступим в заключительной части.
продолжение следует...