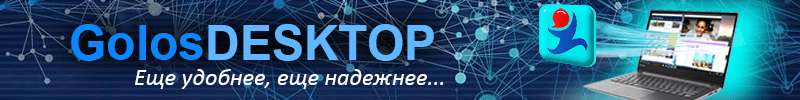Но перед тем как Россия смогла окончательно укрепиться на рубеже Наровы, пройдет еще целое столетие. Воспользовавшись тяжелым временем польской интервенции на Руси, шведы в начале 17 века вторглись в пределы русского побережья Финского залива и осадили Ивангородскую крепость. Эта осада была заранее подготовленной операцией. Карл Девятый, стремившийся захватить земли Северной Руси и утвердить в них свое влияние, хотел превратить Ивангород в форпост шведской агрессии на Востоке. Поэтому в ноябре 1608 г. он распорядился захватить Ивангород и двинуться вглубь России. Однако овладеть крепостью шведам удалось лишь в 1613 г., после того как они захватили бассейн Невы, а также крепости Ям, Копорье, Карелу, Орешек, Ладогу.
О взятии Ивангорода имеются некоторые подробности в записках курляндскаго герцогскаго гофрата Лаврентия Миллера. В них говорится: «3амок против Нарвы есть крепость, расположенная на великой горе. Русские зовут эту крепость Ивангородом, купцы же называют ее русскою Нарвою. В Ивангороде находился гарнизон, состоявший из 3 тысяч московитов, не желавших сдаваться. Господин Понтус, предложив сдачу, дал им три дня на размышление, а по миновании этого срока, направил свои картауны на крепость и велел сделать залп на воздух поверх крепости. Московиты хорошо знали, что великий князь не приходил на помощь ни Полоцку, ни Великим Лукам, не придет и к Пскову; без всякого сомнения, знали, что им был важен единственно Псков; могли также из крепости видеть, как обошлись шведы с московитами в Нарве, потому потребовали еще раз переговоров. Когда же им был дозволен свободный выход из крепости со всем тем, что могли унести на себе, то они и сдали весьма сильную крепость Ивангород господину Понтусу. Выходили они из крепости опечаленные, и когда им пришлось проходить между двумя рядами шведских ратников, то никому в глаза не смотрели, а глядели на небо и знаменовали себя, по их обычаю, крестом на лоб, грудь и оба плеча, наклоняли голову к земле и снова смотрели в небо».

Ивангородская крепость - западный оплот Русского государства. Часть вторая
Так менялась Ивангородская крепость с момента основания до начала 17-го века. Литографии. Музей крепостей
Значение захваченных территорий было хорошо понятно преемнику Карла Девятого — шведскому королю Густаву-Адольфу, стремившемуся к господству в Прибалтике. «Нева и Нарова, — писал он, — могут служить для шведской торговли воротами, которые легко во всякое время запереть для русских». Но если Нева и Нарова были воротами в Прибалтику, а Нарва являлась замком для этих ворот, то ключом к замку служила крепость Ивангород. Именно возвращения Ивангорода Московскому государству шведский король очень боялся. Давая в 1615 г. «окончательную инструкцию» своим комиссарам, назначенным для переговоров с Россией, он подчеркивал, что обратная уступка русским Ивангорода явилась бы для него крайне нежелательной, так как «никогда не может представиться лучшего, чем теперь, случая покончить с опасностью, почти всегда существовавшей у Нарвы». Для этого нужно было либо навсегда изолировать крепость от Русского государства, либо уничтожить ее; и шведский король отмечал, что он «ни в коем случае не намерен отдавать Ивангорода, если только он не будет срыт и никогда не возобновлен, а материал стен перенесен в другое место». Опасаясь, что при неудаче мирных переговоров уничтожение Ивангорода окажется ему невыгодным, Густав-Адольф указывал, что «до заключения мира… не нужно срывать его». Исконное право русского народа на захваченные шведами территории мешало главе Шведского государства дать окончательное распоряжение о разрушении Ивангородской крепости. Это право он прекрасно сознавал, когда в той же инструкции писал: «тогда русские всегда имели бы право и основание снова его выстроить и починить». Поэтому Густаву-Адольфу было «угодно, чтобы комиссары твердо стояли на сохранении за собой Ивангорода; но если этого никак нельзя будет», — указывал он, тогда необходимо «окончательно его срыть». Однако, чтобы стереть с лица земли целую крепость, нужно было иметь достаточное количество рабочей силы, и королевский канцлер Аксель Оксеншерна предлагал комиссарам «уговаривать» простой люд «направляться на крепостные работы… в Ивангород».
Очередной раунд военных действий окончился в 1617 году, при посредничестве английского посла Джона Мерика подписанием Столбовского мира, по которому Швеция получила Ивангород, Яму, Копорье и Орешек со всеми их посадами и деревнями. Города эти Михаил Федорович отдал Швеции, поручившись не отвоевывать их более за себя и своих наследников «и потом будущих российского царствия великих государей, царей и великих князей». Новгород, Старая Русса, Порхов, Ладога и Гдов остались за русскими.

Ивангородская крепость - западный оплот Русского государства. Часть вторая
Ратификация шведского короля Густава Адольфа на Столбовский договор о вечном мире между Россией и Швецией, отрезавший Россию от Балтики
Шведский король был рад заключению мира, что и выразил в речи своей на сейме того же 1617 года. «Великое благодеяние оказал Бог Швеции — говорил он — тем, что русские, с которыми мы исстари жили в неопределенном состоянии и в опасном положении, теперь навеки должны покинуть разбойничье гнездо, из которого прежде так часто нас беспокоили. Русские — опасные соседи; границы земли их простираются до Северного, Каспийского и Черного морей; у них могущественное дворянство, многочисленное крестьянство, многолюдные города; они могут выставить в поле большое войско. А теперь этот враг без нашего позволения не может ни одного судна спустить в Балтийское море. Большие озера — Ладожское и Пейпус, нарвская область, тридцать миль обширных болот и сильные крепости отделяют нас от него. У России отнято море, и, Бог даст, теперь русским трудно будет перепрыгнуть через этот ручеек». Время показало, что шведский король оказался прав лишь отчасти— задача выхода к балтийским берегам потребовала целое столетие, но все же была решена…
Другую верную мысль высказал русский уполномоченный на переговорах со шведами Ордын-Нащокин: «От Иваньгорода прибыли никакой нет; Нарва получше его, и та теперь запустела, потому что от Новгорода торги худы, а с моря быть купцам их же, шведским, да к Ивангороду и корабли не ходят. Когда Ивангород был в русском владеньи, то через Нарову реку с городом Нарвою безпрестанныя ссоры и крови были; невозможно быть покою, если эти оба города не будут за одним государем». Эти слова стали путеводной звездой Петра Первого, одним из важнейших достижений которого стал обеспечение России выхода к Балтике.

Ивангородская крепость - западный оплот Русского государства. Часть вторая
Петр Первый — главный архитектор русских побед в Северной войне
Эта задача казалась Петру настолько важной, что он поспешил заключить мир с Турцией, с которой он тогда воевал, и явился со своей армией в бывшие новгородские земли (ныне — Ингерманландию). Он, как и прежние русские государи, сознавал, что России надо стать твердою ногою у Балтийского моря, чтобы навсегда сломить силу шведов.
В ряду шведских крепостей, прежде всего, для этой цели нужно было завладеть Нарвой, из-за которой уже и прежде было пролито не мало крови, и которую шведы, отвоевав у Ивана Грозного, упорно удерживали за собою. После ряда неудач Петру удалось осуществить старинное заветное желание русских: он пробился к морю и раздвинул, наконец, Россию до ее естественных границ. Примечательно, что крепость Нарва была взята первой, в то время как гарнизон Ивангорода продолжал сопротивление. Комендант Ивангорода, подполковник Стирнштраль долго не сдавался, рассчитывая, вероятно, на подкрепления. Наконец, он должен был уступить, но выговорил гарнизону право свободного выхода из крепости с оружием в руках. Его просьба о разрешении выступить с распущенными знаменами и с музыкой была отвергнута.

Ивангородская крепость - западный оплот Русского государства. Часть вторая
А. Е. Коцебу, Взятие Нарвы
О переговорах со Стирнштралем и последовавшей затем сдаче Ивангорода имеется следующее современное повествование очевидца:
«После штурма Нарвы, в тот же день вечером явился на ивангородской стене русский полковник Риттер с требованием сдачи без всяких условий. Его просили подождать, пока отыщут коменданта; напоследок объявили, что комендант в Нарве, и неизвестно, жив или мертв. Дело в том, что Стирнштраль желал выиграть время для приготовления к отпору, хотя под ружьем было не более 200 человек. После Риттера явился другой полковник Арнштедт, с письменным приказанием генерал майора Горна покориться безотговорочно. Комендант отвечал, что Горн в руках неприятеля, следовательно приказания его бессильны; он же решился защищаться с своим гарнизоном до последней капли крови. Царь был очень разгневан таким ответом и вторично прислал Арнштедта объявить, что если воля его немедленно не исполнится, все пленные в Нарве будут преданы смерти без пощады младенцев в матерней утробе. «В воле государя делать, что угодно — отвечал Стирнштраль — но я считаю за стыд отдать по первому требованию крепость, врученную мне королем. Если же предложены будут честные условия, тогда может быть царское желание исполнится. После того фельдмаршал Огильвий дал знать, что ему удивительно, как можно упрямиться с голодным гарнизоном и что есть еще время воспользоваться царскою милостью; вследствие чего спрашивали, на каких условиях думает комендант сдать крепость, причем требовали прислать 3 офицеров для договора, соглашаясь, с своей стороны, отправить такое же число в виде заложников в Ивангород Стирнштраль, со слезами на глазах, спросил своих: что делать? Все отвечали единогласно: покориться, иначе гарнизон погибнет от голода, имея не более 5 мер хлеба. 15 августа хотели вступить в переговоры, но русские заняты были празднованием взятия Нарвы… На другой день посланы в Нарву 3 офицера для переговоров; русские выслали с своей стороны 3-х капитанов. Комендант требовал согласия всему ивангородскому гарнизону удалиться в Ревель с женами и детьми и выступить из крепости с распущенными знаменами, с музыкой, с оружием в руках и 4 полевыми пушками. Фельдмаршал согласился на свободное удаление гарнизона; в орудиях, музыке и знаменах отказал. 16 августа, в 9 часов утра (по шведскому стилю — 17 августа) русские вступили в Иван-город; а гарнизон частию на судах, частию сухим путем отправился в Ревель и Выборг».
В полном собрании законов помещены пункты капитуляции, предложенной Стирнштралем (Стиерне Стралем) с ответом на них фельдмаршала Огильвия (от 16 августа 1704. г.).
Шведское предложение было следующее:
«Понеже Божиею милостию державнейшего короля Карла XII, короля готского и вандальского (и проч.) определенный подполковник и комендант крепости Ивангорода Магнус Стиерне Страль, по предложению Божиею милостию всепресветлейшаго и державнейшего великого государя царя и великого князя Петра Алексеевича всея России самодержца и проч. фельдмаршала полковника пехотного полка и командующего генерала высокородного господина, барона Георга Венедикта Огильвия, по силе его письма от 13 августа 1704 года, в рассуждении крепости Ивангорода намерен сию учинить капитуляцию, то и рассудил поставить следующие договоренные пункты:
Требую честного отпуска для себя и для всех здесь находящихся офицеров, артиллерийских служителей и солдат крепости таким образом, чтоб можно было выйти с распущенными знаменами, с военною музыкою, с 4-мя пушками, с верхним и нижним оружием как для здоровых, так и для больных, без всякой перемены с надлежащей амунициею, т. е. с 12 зарядами и пулями во рту.
Чтоб как моя, так и всех обер и унтер-офицеров жены, также солдатские женки и дети, со всеми их пожитками, ничего не исключая, могли быть свободно и беспрепятственно отпущены и свободно отъехать.
Такой же требуется свободы для всех и каждого, здесь в крепости находящегося, мужчины и женщины какого бы они состояния ни были.
Требуется для всего гарнизона вместе со всеми больными, ранеными и арестантами, для вышеупомянутых пушек, для собственной моей поклажи, также и для всех и каждого, какого бы состояния кто ни был, нужные суда, на которых бы можно было немедленно и не теряя времени, прибыть безопасно в Ревель с паспортами и конвоем его велико-царского величества.
Чтобы всем здесь находящимся офицерам и гражданам, которых жены и дети в Нарве, дозволено было взять их из Нарвы, и чтоб, напротив того, те жены, кои здесь находятся и у которых мужья в Нарве могли к ним отправиться.
Требую я, чтоб все офицеры и солдаты и все прочие и каждые, какого бы они состояния ни были, могли взять с собою на месяц нужный провиант.
Чтоб как я, так и офицеры и все прочие, какого бы состояния ни были, оставшие(ся) в Нарве свои вещи могли оттуда получить.
Ежели б всемогущему Богу угодно было, чтоб сия крепость некогда, опять перешла во владение всемилостивейшего моего короля,то предоставляю я себе, чтоб оная конечно в таком же состоянии, как ныне со всеми в ней находящимися вещами была возвращена. Наконец, как я намерен все, что между нами будет заключено и постановлено, содержать искренно и безковарственно, то уповаю, что и с другой стороны все наблюдено будет искренно и на честном слове».
На это предложение Стирнштраля Огильвий отвечал: Понеже его велико-царского величества победоносные войска уже не токмо весь город Нарву, но также и горнверк Ивана-города штурмом взяли, и посему излишно, чтоб без защиты стоящую старую стену Ивана-города в несколько дней до подошвы разрушить, слабый гарнизон приводить в несостояние более защищаться; то по воинскому праву ничего более не можно дозволять и ни на что более согласиться, как на 1 артикул, чтобы весь гарнизон вышел порядочно из Иван-города, без знамен и без музыки, также и без обнаженных шпаг, но с верхним и нижним оружием, и чтобы все артиллерийские служители и к войску надлежащее отпущено было. Второй, тако-ж и третий пункты совершенно дозволяются. На 4 пункт. В требованном вывозе некоторых пушек совершенно отказывается, притом все оные аретанты должны быть освобождены; прочее же вместе с 5 и 6 пунктом совершенно дозволяется. На 7 пункт. Известно, что по причине штурма все должно достаться в добычу войску. Если же бы что-нибудь из мебели или платья нашлось, то его велико-царское величество, по всемилостивейшему его великодушию, и на сию просьбу склонится. Осьмый пункт предоставляется всемогущему Богу и Его произволению.
По совершении и по сличении сих пунктов договора, должны главнейшие ворота быть тотчас отворены еще ныне вечером между 5 и 6 часом, и гарнизон его велико-царекаго величества впущен без дальнейшаго отвращения. Во свидетельство и для вящего удостоверения помянутых пунктов договора два разногласящие экземпляра сочинены и взаимно разменены, все верно и без сопротивления учинено».
16-го августа Ивангород был занят русскими войсками. Важный этап выполнения глобальной задачи был завершен. В 1708 году по новому административному делению Ивангород вошел в Ингерманландскую губернию, которую в 1710 году переименовали в Петербургскую губернию. В 1718 году в Нарве, Ивангороде и их предместьях жили 4000 человек, в том числе в гарнизонах более 1400 человек.
Постепенно военно-оборонительное значение северо-западных крепостей сходило на нет. В 1863 году, по высочайшему повелению, была упразднена нарвская крепость, крепостные верки переданы городу, а древние стены Ивангорода, ливонский замок и Вышгород, как памятники древности, вверены попечению военного ведомства. Незадолго до этого внутренняя поверхность стен батареи и плоскости ее бойниц были заново облицованы. За год до этого была восстановлена и разрушенная часть батареи в месте примыкания ее к тайнику.
К сожалению, Ивангородская крепость не сохранилась полностью до наших дней в прежнем виде; она была подорвана при отступлении немецких войск. Более подробно рассказал об этом унтершарфюрер 3-го танкового корпуса Лангевич, захваченный советскими разведчиками во время решающего наступления в сентябре—октябре 1944 г. В своем показании 4 ноября 1944 г. Лангевич написал:
«Еще зимой, когда мы находились в Нарве, пришел приказ от командующего 32-м саперным подразделением, подчиненным армейской группе «Нарва», подполковника Шойнемана, взорвать крепость Ивангород. Ответственным за это был командир саперной части корпуса СС оберштурмбанфюрер (подполковник) Шоффер. Разрушения производились в течение нескольких дней, и при этом было использовано несколько тонн динамита (для каждой башни около 3000 кг) ».
В результате этих разрушений памятник лишился шести башен, одного тайника, больших участков крепостных стен, некоторых деталей и фрагментов.
Сегодня туристы приезжают на берега Наровы, чтобы полюбоваться удивительным зрелищем: двумя крепостями, стоящими вплотную друг к другу по берегам реки. Двумя крепостями, столь непохожими друг на друга: компактной русской регулярной Ивангородской крепостью, свободно раскинувшейся на горе, и средневековым рыцарским замком с высокой доминантой, запертым в тесноте. Говорят, что нигде в мире две столь разные крепости не стоят так близко друг другу. Концентрированно выраженное противостояние Запада и Востока, дающее возможность оценить разницу в военно-инженерных и архитектурно-художественных качествах. Место, ставшее живой летописью борьбы русского этноса за выживание, которое обязательно стоит посетить всем, кто неравнодушен к истории нашей страны.