
Есть различные анномы к слову сентиментальность: равнодушие, цинизм,сдержанность, черствость, бесчувственность.
Не знаю, может быть и так. Но мне кажется, что сентиментальность может сочетаться с любым из этих качеств. Просто человека делают сентиментальным разные вещи. Ведь даже Гитлер был сентиментальным. Другой вопрос, что его таким делало. Брррр....
Внизу я привожу небольшой отрывок об этом из «Трех Товарищей» Ремарка.
Вечером я пришел домой ровно в шесть. Отперев дверь, я увидел необычную картину. В коридоре стояла фрау Бендер — сестра из приюта для младенцев, и вокруг нее столпились все женщины нашей квартиры.
— Идите-ка сюда, — позвала фрау Залевски. Оказывается, причиной сборища был разукрашенный бантиками младенец. Фрау Бендер привезла его в коляске. Это был самый обыкновенный ребенок, но все дамы наклонялись над ним с выражением такого неистового восторга, словно это было первое дитя, появившееся на свет. Все они кудахтали и ворковали, щелкали пальцами над носом маленького существа и складывали губы бантиком. Даже Эрна Бениг в своем драконовом кимоно участвовала в этой оргии платонического материнства.
— Разве это не очаровательное существо? — спросила фрау Залевски, расплываясь от умиления.
— Об этом можно будет с уверенностью сказать только лет через двадцать — тридцать, — ответил я, косясь на телефон. Лишь бы только меня не вызвали в то время, пока здесь все в сборе.
— Да вы посмотрите на него хорошенько, — требовала от меня фрау Хассе.
Я посмотрел. Младенец как младенец. Ничего особенного в нем нельзя было обнаружить. Разве что поразительно маленькие ручонки и потом — странное сознание, что ведь и сам был когда-то таким крохотным.
— Бедный червячок, — сказал я. — Он еще и не подозревает, что ему предстоит. Хотел бы я знать, что это будет за война, на которую он поспеет.
— Жестокий человек, — сказала фрау Залевски. — Неужели у вас нет чувств?
— У меня даже слишком много чувств, — возразил я. — В противном случае у меня не было бы таких мыслей. — С этими словами я отступил к себе в комнату.
В данном случае я полностью солидарен с Ремарком. Младенцы, даже свои собственные, не вызывают у меня никаках сентиментальныз чувств.
А вот еще один отрывок.
Послышался звук мотора, и вскоре мимо нас промчалась машина.
– Маленький мерседес, – заметил я, не оборачиваясь. – Четырехцилиндровый.
– Вот еще один, – сказала Пат.
– Да, слышу. Рено. У него радиатор как свиное рыло?
– Да.
– Значит, рено. А теперь слушай: вот идет настоящая машина! Лянчия! Она наверняка догонит и мерседес и рено, как волк пару ягнят. Ты только послушай, как работает мотор! Как орган!
Машина пронеслась мимо.– Тут ты, видно, знаешь больше трех названий! – сказала Пат.
– Конечно. Здесь уж я не ошибусь.
Она рассмеялась:
– Так это как же – грустно или нет?
– Совсем не грустно. Вполне естественно. Хорошая машина иной раз приятней, чем двадцать цветущих лугов.
– Черствое дитя двадцатого века! Ты, вероятно, совсем не сентиментален…
– Отчего же? Как видишь, насчет машин я сентиментален.

У протагониста романа Роберта Локампа хорошая машина вызывает сентиментальные чувства. И я бы сказал, что многих мужчин хорошая машина тоже вызывает подобные чувства. Но, хотя я люблю смотреть на хорошие машины, и вид открытого капота машины вызывает во мне чувство так как следует покопаться, все же сентиментальных чувств машины и механизмы во мне не вызывают.
А вот следующие два отрывка вызывает... Собственно второй отрывок, но чтобы его понять нужно прочитать первый...
Он работал. С холста глядела дама, очень красивая; в продолговатом насмешливом лице было что-то загадочное, точно скрытое маской, далеко расставленные глаза под высокими бровями, крупный рот с тонкой верхней и толстой нижней губой плотно сжат. Дама позировала ему уже три раза. Кроме того, он сделал много набросков. Теперь он заканчивал портрет. Обычно Гойя работал быстро и уверенно. Над этим портретом он корпел уже четвертую неделю: а портрет не удавался и не удавался.
Все было «верно». Именно такой и была эта дама, которую он хотел изобразить, он давно уже знал ее и не раз писал — она была женой его друга Мигеля Бермудеса. Все было тут: то невысказанное, насмешливое, то лукавое, что она затаила под маской светской дамы. Не хватало только какого-то пустяка, но в этом пустяке для него было все.
Однажды он увидел ее в гостях у дона Мануэля, герцога Алькудиа, всесильного фаворита, у которого Мигель Бермудес был доверенным секретарем. На ней было светло-желтое платье с белым кружевом; и он вдруг увидел ее всю, увидел то неуловимое, смущающее, бездонное, то самое важное, что было в ней. Она предстала перед ним в серебристом сиянии. Тогда при виде доньи Лусии Бермудес в светло-желтом платье с белым кружевом он сразу понял, какою он хочет ее написать, какою должен написать. Теперь он мучился над ее портретом, все было как надо — и лицо, и тело, и поза, и платье, и светлый серый фон, несомненно верный. И однако это было ничто, не хватало самого главного — оттенка, пустяка, но то, чего не хватало, решало все. В глубине души он знал, почему портрет не удается. Прошло уже больше чем полмесяца с того вечера во дворце герцогов Альба, а женщина на возвышении не давала о себе знать. Он чувствовал горечь. Ну не приходит сама, так могла бы хоть пригласить его и потребовать веер! Конечно, она занята своей дерзкой, нелепой затеей — своим замком в Монклоа. Он мог бы пойти к ней и без приглашения и отнести веер. Но этого не позволяла ему гордость. Она должна позвать. Она позовет. То, что произошло между ними на возвышении, нельзя просто смахнуть, как наброски, которые он рисовал на песке.
Франсиско был не один в мастерской. Как обычно, тут же работал его ученик и помощник Агустин Эстеве; помещение было просторное, и они не мешали друг другу.Сегодня дон Агустин работал над конным портретом генерала Рикардоса. Холодное, угрюмое лицо старика генерала написал Гойя; изобразить лошадь и тщательно, до мелочей выписать мундир и медали, на точном воспроизведении которых настаивал генерал, он поручил добросовестному Агустину. Дон Агустин Эстеве, человек лет за тридцать, сухопарый, с большой шишковатой головой, с высоким выпуклым лысеющим лбом, с продолговатым острым лицом, впалыми щеками и тонкими губами, был неразговорчив; Франсиско же, от природы общительный, любил болтать за работой. Но сегодня он тоже молчал. Против обыкновения, он не рассказал даже домашним о вечере у герцогини Альба.
Агустин, как обычно, молча остановился за спиной у Гойи и рассматривал серебристо-серый холст с серебристо-серой женщиной. Он уже семь лет жил у Гойи, они целые дни проводили вместе. Дон Агустин Эстеве не был большим художником и с болью это сознавал. Зато он хорошо понимал живопись, и никто другой не видел так ясно, как он, в чем Франсиско силен, а в чем слаб. Гойя нуждался в нем, нуждался в его ворчливых похвалах, ворчливом порицании, немых упреках. Гойя нуждался в честной критике; он негодовал, он высмеивал, ругал критика, забрасывал его грязью, но он нуждался в нем, нуждался в признании и в неодобрении. Он нуждался в своем молчаливом, вечно раздраженном, тонко понимающем, много знающем судье, в своем сухопаром Агустине, который невольно наводил на мысль о семи тощих коровах; он ругательски ругал его, посылал к черту, любил. Он не мог жить без него, так же как и Агустин не мог жить без своего великого, ребячливого, обожаемого, несносного друга.
Агустин долго смотрел на портрет. Он тоже знал даму, которая так насмешливо глядела на него с полотна, он знал ее очень хорошо, он любил ее. Ему не везло у женщин, он сам понимал, что мало привлекателен. Донья Лусия Бермудес была известна в Мадриде как одна из немногих замужних дам, у которой не было кортехо — общепризнанного любовника. Франсиско, перед которым, пожелай он только, не устояла бы ни одна женщина, конечно, мог бы стать любовником доньи Лусии. То, что он явно этого не хотел, было приятно Агустину, но в то же время и обидно. Однако он был в достаточной мере знатоком, чтоб подойти к портрету только с художественной меркой. Он видел, что портрет хорош, но то, чего хотел Франсиско, не вышло. Он сожалел об этом и радовался. Он отошел, вернулся к своему большому полотну и снова принялся молча работать над крупом генеральской лошади.
Гойя привык, что Агустин стоит у него за спиной и смотрит на его работу. Портрет доньи Лусии не удался, но все же то, что он сделал, было ново и дерзновенно, и он с нетерпением ждал, что скажет Агустин.
А вот второй...
Пепа спросила, хочет ли он спать с этой женщиной? Глупый вопрос. Слыханное ли дело, чтобы мужчина в соку, здоровый и не хотел спать с любой мало-мальски красивой женщиной, а донья Лусия Бермудес интригующе красива, утонченно красива, красива по-своему, не так, как другие.
Ее муж, дон Мигель, был его другом. Но Франсиско не лукавил перед собой, он знал — не это останавливает его. Он не пожалел бы времени и труда, чтоб завоевать Лусию, но его удерживало как раз то загадочное, то неопределенное, что было в ее облике. Оно манило художника, но не мужчину. То ясное и то скрытое, что жило в ней, сливалось воедино, было неотделимо, было призрачно, было страшно. Один раз он это увидел тогда, на балу у дона Мануэля: серебристый отблеск на желтом платье, мерцание, окаянный и благодатный свет. Вот оно, вот в чем ее правда, его правда, вот тот портрет, который он хотел написать.
И вдруг он опять увидел. Вдруг он понял, как передать эту мерцающую, переливчатую, струящуюся серебристо-серую гамму, которая открылась ему тогда. Дело не в фоне, не в белом кружеве на желтом платье. Вот здесь эту линию надо смягчить, вот эту тоже, чтобы заиграли и тон тела и свет, который идет от руки, от лица. Пустяк, но в этом пустяке все. Он закрыл глаза, и теперь он видел. Он знал, что ему надо делать. Он работал. Изменял. Где чуть прибавит, где уберет. Все выходило само собой, без труда. В невероятно короткий срок портрет был готов.
Он смотрел на картину. Хорошая картина! Он добился своего. Создал новое, значительное. Женщина на портрете та же, что и в жизни, от нее исходит то же мерцание, он удержал то струящееся, неуловимое, что было в ней. Это его свет, его воздух, это мир, каким он его видит.
Лицо Гойи разгладилось, на нем появилось выражение глуповатого блаженства. Он присел на стул, немного усталый, праздно опустив руки.
Вошел Агустин. Угрюмо поздоровался. Сделал несколько шагов. Прошел мимо портрета не взглянув. Однако что-то он все же заметил. Сразу обернулся, взгляд стал острым.
Он долго смотрел. Затем откашлялся.
— Вот теперь это то, — сказал он наконец хриплым голосом. — Теперь все есть: и воздух, и свет. Вот теперь это твой настоящий серый тон, Франсиско.
Лицо у Гойи сияло, как у мальчишки.
— Ты это серьезно, Агустин? — спросил он и обнял друга за плечи.
— Я редко шучу, — сказал Агустин.
Он был глубоко взволнован, чуть ли не сильнее, чем сам Франсиско. Он не учился сыпать цитатами из Аристотеля и Винкельмана, как дон Мигель Бермудес или аббат. Этого он не умеет, где ему, он скромный художник, но в живописи он понимает, как никто, и знает, что вот этот Франсиско Гойя, его Франчо, создал великое произведение, опередившее свой век: он освободился от линии. Другие художники стремились все время только к чистоте линии, их живопись, в сущности, была раскрашенным рисунком. Франсиско учит людей видеть мир по-новому, видеть во всем его многообразии. И, несмотря на свое самомнение, он, верно, не знает, как велико, как ново то, что он создал.
Гойя меж тем нарочито медленно взял кисти и начал их тщательно мыть. Не отрываясь от работы, в душе ликуя, но также нарочито медленно он сказал:
— Вот теперь я еще раз напишу тебя, Агустин. Только изволь надеть твой замызганный коричневый кафтан и скорчить твою самую мрачную мину. Получится замечательно, с моим-то серым тоном, правда? Твой мрачный вид и мой светлый тон — эффект получится необычайный.
— Он подошел к огромному портрету генерала верхом на коне, над которым все еще трудился Агустин. — Уж больно хорош лошадиный зад! — признал он. Затем, хоть это и не было нужно, еще раз вымыл кисти.

Почему я об этом вспомнил? Недавно во время утренней прогулки, я слушал книгу Стива Кинга “On Writing” я бы перевел как «О мастерстве письма». Стив из бедной семьи. Отца он не знал, и его и его брата вырастила мать одиночка, как он выразился «она была одной из первых феминисток, но не по собственному желанию». Писать он начал с раннего возраста и от издательств получал бесконечные отказы. До 26 летнего возраста он издал только пару рассказов. И с женой и двумя маленькими детьми, работая учителем в школе, он уже был настроен очень пессимистически о своей карьере. Но тут он начал писать мини роман о девушке, которую призерают, и над которй издеваются другие девчонки в школе, но у которой есть природный дар телекинеза. В момент самой большой травли она мстит всем своим обидчикам. Так стала появляться на свет будущая Керри.
Стиву не нравилась главная героиня, и он даже выбросил начатый роман. Но его жена Табата, тоже талантливый писатель и поэт, вытащила манускрипт из мусорной корзины и сказала ему «Стиви, в этой теме что-то есть» и настояла на том, чтобы он закончил роман и послал его агенту.
Потом они забыли о манускрипте, и совершенно случайно, когда они были посередине многочисленных проблем и счетов, Стив получил письмо, которой он даже боялся открывать, думая что это еще один счет. Но это оказалось не счетом, а двумя с половиной тысячами авансом за издательство Керри. Для сравнения скажу что в то время жалование Стива за целый год было шесть с половиной тысяч. Всю ночь Стив и Тэбота говорили о будущем и Стив даже сказал, что вероятно он сможет получить за Керри от 10 до 60 тысяч долларов. Табата была в совершенно восхищении от этой цифры.
А еще через какое-то время раздался звонок от агента Стива, который сказал, что одно из центральных изданий приобрело право на Керри за 400 тысяч долларов. У Стива помутилось в голове. Он попросил агента повторить номер и переспросил 40 тысяч. «Нет», сказал агент, «четыреста». Стив сполз на пол и так и сидел долгое время. Дело здесь не в деньгах, а в том что после этого Стив смог оставить учительство и додержать семью только на литературные заработки.
Таким образом, я выкристаллизовал то, что вызывает у меня сентиментальные чувства. Во-первых – это процесс свершения волшебства – когда произведение искусства вдруг, без труда возникает, из долгой и тяжелой работы. А во-вторых тогда, когда кривая удачи улыбается талантливому человеку, и его работа увенчивается признанием.
Не знаю, может быть эти ожидания были заложены советским воспитанием или родителями, но видно они сидят где-то глубоко, на уровне подсознания.


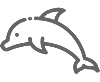

_cr.jpg)

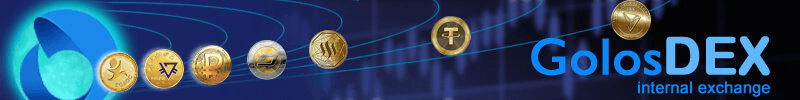
@mgaft1, Поздравляю!
Ваш пост был упомянут в моем хит-параде в следующих категориях: