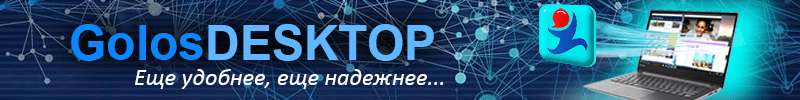Однажды в одном провинциальном городишке с ничем неприметным названием, которое почти никто не запоминал, произошло следующее, и то только всё написано со слов очевидцев, которых уже нет.
В те времена, в середине XIX века, в царской России, жизнь была строго разделена по сословиям и достатку. Богатые помещики и чиновники жили в просторных усадьбах с крепостными слугами, устраивали балы и охоты, ели изысканные блюда из фарфора и разъезжали в каретах, запряжённых резвыми лошадьми. Они владели землями, взимали оброк с крестьян и редко задумывались о нуждах простого люда, полагаясь на волю государя-императора и церковь. Бедные же, в основном крепостные крестьяне, ютились в тесных избах с земляными полами, работали от зари до зари на барских полях, питаясь хлебом с луком да квасом, и часто голодали в неурожайные годы. Среди крестьян выделялись кулаки — зажиточные хозяева, которые скупали землю, нанимали батраков и наживались на чужом труде, подражая помещикам в жадности, но оставаясь в той же деревенской грязи. Менталитет того времени был пропитан суевериями: люди верили в домовых, леших и упырей, крестились при каждом шорохе, а смерть воспринимали как неизбежность, часто сопровождаемую страхом перед потусторонним. Обычаи требовали строгих похоронных ритуалов — с поминками, свечами и молитвами, — и горе тому, кто нарушал традиции, ибо это могло навлечь проклятие на весь род.
В этом забытом богом городишке, где улицы тонули в грязи после дождей, а зимой заметались снегом по самые крыши, жила скромная семья крестьянина Ивана Петровича Смирнова. Он был из бедных, батрачил у местного кулака Федора Кузьмича, который слыл скупердяем и не жалел ни копейки на работников. У Ивана была дочь Анна, девятнадцати лет, красивая, как полевая ромашка, с русыми косами и тихим нравом. Она помогала матери по дому, шила рубахи и мечтала о простом счастье — выйти замуж за доброго парня из соседней деревни.
Однажды осенью, когда листья желтели на берёзах, а в воздухе витал запах прелой земли, Анна слегла с лихорадкой. Лекарь из уездного города, которого кулак Федор нехотя вызвал за плату, осмотрел девушку и покачал головой: "Каталепсия, батюшка, или, проще сказать, мнимая смерть. Сердце еле бьётся, дыхание слабое, как у покойницы". В те времена медицина была примитивной, и такие случаи не редкость — люди впадали в глубокий сон, похожий на смерть, от болезней или ядов. Иван, в отчаянии, молился перед иконой, но через два дня Анна лежала холодная и неподвижная. Соседи шептались: "Умерла, бедняжка. Господь прибрал".
Похоронили Анну по всем обычаям: в гроб из сосновых досок, с венком из осенних цветов, на кладбище за церковью. Священник отслужил панихиду, крестьяне поплакали, а кулак Федор даже дал Ивану полтину на поминки, чтобы не прослыть совсем бессердечным. Богатые в городке — пара купцов да исправник — и не заметили потери, занятые своими делами: торговлей хлебом и взиманием податей. Жизнь пошла своим чередом: бедные вернулись к работе, кулаки — к подсчётам барышей.
Но на третью ночь после похорон случилось странное. Старик могильщик Егор, известный в городке как пьяница и рассказчик баек, возвращался с кладбища после вечерней молитвы. Вдруг он услышал стук из свежей могилы Анны — тихий, но отчётливый, как будто кто-то царапал доски изнутри. Егор перекрестился, пробормотал: "Упырь! Или живая она?" — и бросился в городок. Он ворвался в избу Ивана, крича: "Аннушка жива! Слышу, стучит она из гроба! Надо копать!"
Иван, услышав это, схватился за сердце. Он всегда верил в чудеса — в конце концов, в России того времени святые мощи творили исцеления, а крестьяне рассказывали о воскресших по молитве. Но соседи, собравшиеся на шум, только качали головами. "Пьян ты, Егор, опять горилки перебрал! Мертвецы не стучат, а если и стучат — то нечисть это". Кулак Федор, которого разбудили, рассердился: "Не морочь народ, старый! Завтра работы полно, а ты байки травишь. Ещё раз такое — в острог сдам за распространение суеверий". Богатые в усадьбах посмеялись над историей, когда она дошла до них: "Крестьянские глупости, ничего больше. Наука говорит, мертвый — значит мертвый". (Как говорится, в морг, значит, в морг.)
Никто не поверил Егору. Иван хотел было сам пойти на кладбище с лопатой, но жена отговорила: "Грех это, Ваня, мертвых тревожить. Священник сказал — упокой Господь её душу". Менталитет того времени не позволял легко нарушать традиции: раскапывать могилу значило навлечь гнев церкви и соседей, а бедные крестьяне боялись всего — от барина до черта. Кулаки же, вроде Федора, заботились только о своём кармане и не желали тратить время на "бредни".
Прошла ночь, а наутро Егор исчез. Говорили, ушёл в соседний уезд, стыдясь насмешек. Иван тосковал, но молчал — жизнь бедняка не позволяла бунтовать. А через неделю на кладбище нашли свежие следы: земля над могилой Анны была слегка разрыта, словно кто-то пытался выбраться, но сил не хватило. Соседи шептались о привидении, крестились и обходили то место стороной. Богатые посмеивались: "Суеверия простонародья". Но Иван до конца дней верил, что дочь была жива, и никто ему не поверил — как и Егору.
С тех пор в городишке рассказывают эту историю у печки зимними вечерами, добавляя детали: то Анна стала русалкой, то кулак Федор проклят за скупость. Но очевидцев нет, и правда утонула в веках, как тот неприметный городок в русской глуши.
Sonya 28.10.2025