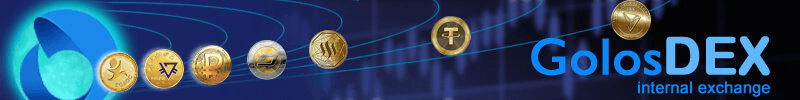НИНА МОЛЧАНОВА
ВОЙНА
ГЛАЗАМИ МАЛЕНЬКОЙ ДЕВОЧКИ
Часть 3
Самиздат
Россия, 141142, МО
2015
Мама Раиса Тимофеевна
В городе был завод по ремонту шахтного оборудования ‒ "Свет шахтёра", а у завода был свой пионерский лагерь на Мишихе. До сих пор не знаю, что это за штука такая была: "Мишиха", но лагерь помню. К нему вела деревянная дорога. Иногда такую дорогу называют "гатью". Весной, после таяния снега, и дождливой осенью по грунтовой дороге не проехать, мостить бетонку или шоссе – дорого. Вот и приспособились сибиряки строить гати, деревянные дороги. Заготавливают нетолстые неошкуренные брёвна и раскладывают их поперёк будущей дороги. К брёвнам прибивают доски так, чтобы получились две непрерывные колеи и дорога готова.
В Сибири всё делают из дерева: заборы, дома от полов до крыши, навесы, колодцы, столбы для электроснабжения, вплоть до высоковольтных, тротуары, дороги. Такой увидел Сибирь Александр Городницкий ещё в конце пятидесятых, в своих геологических скитаниях:
"Покрыта льдом зелёная вода,
Летят на юг, перекликаясь птицы,
А я иду по деревянным городам,
Где мостовые скрипят, как половицы."
Вместо летнего отпуска маму послали работать начальником в пионерлагерь на Мишихе. Она уже две недели там. Надо подготовить помещения к приёму детей: убрать, неизвестно каким образом попавший туда за зиму мусор, что-то починить, подкрасить, почистить трубы у стоявший здесь в стылом одиночестве кухонной печи. Но вот все работы закончены, на улице заметно потеплело, и, наконец-то завтра - открытие сезона. А это значить, что и мне пора отправляться к месту дальнейшего прохождения службы. Путь не близкий для моих четырёх лет – 4 км. Хорошо ещё, что деревянная дорога будет сопровождать меня до места назначения – не даст заблудиться. Мы идём вместе с Тамарой Захаровной, старшей пионервожатой лагеря. Наверное, я плетусь еле-еле, потому что ей приходится время от времени подбадривать меня: "Держись, Нинок-Нирук, скоро уже половина пути!". Это она в шутку так меня называет, а вообще-то, я – Нина. В конце концов, попутчица не выдерживает и сажает меня на плечи. Так я и появляюсь перед молодым народом: сидящей верхом на её худеньких плечах.
У мамы совершенно не было времени заниматься мной – я была предоставлена самой себе. У мальчишек были свои дела, и они меня в лучшем случае не замечали. Девочки стали брать меня в свои игры: в дом, в магазин, в больничку. Чаще просто забавлялись со мной как с настоящей: говорящей, бегающей, видящей куклой. Очень скоро мне это надоело, и я стала их сторониться. Сиротливо бродила одна по территории лагеря, залазила в самые укромные места. Обыденная форма одежды: трусы и майка, ноги босые. Платьице, панамка и сандалики выдавались только для торжественной линейки: открытие или закрытие сезона, приезд шефов из дирекции завода. Босые ноги были в цыпках и порезах, в подошвах постоянно сидели занозы. Вытащить их сама я не могла, просить помощи – не решалась. Вот и ходила, постоянно прихрамывая, иногда – на обе ноги. Хорошо когда моя верная подруга – Тамара Захаровна – отловит меня и повыдирает застрявшие в ногах предметы. Я никогда не плакала и не кричала. И эта привычка тоже осталась на всю жизнь.
Мне хотелось чего-то настоящего, а не кукольного. Нашла себе место на линейке и под звуки горна, первая прибегала туда, участвовала в уборке лагеря, ездила вместе с водовозом на колодец за водой, дежурила у флага. Но самым любимым моим занятием было – помогать в столовой: протирать столы, ставить солонки, раскладывать вилки-ложки. Иногда мне даже позволяли расставлять на столах тарелки с едой и раскладывать хлеб.
Хотя в лагере по сравнению с домом хорошо кормили, есть всё равно хотелось почти всегда, а в столовой, где витали ни с чем несравнимые запахи, хотелось ещё больше! Это чувство сопровождало каждого из нас ещё долгие годы. Но я уже отлично понимала значение слова "нельзя" и никогда не позволяла себе взять лишний кусочек. Но однажды со мной произошёл конфуз.
В обед к чаю давали конфетки: маленькие разноцветные шарики, очень похожие на витаминки. Каждому полагалось по 8 шариков. Я вышла из столовой, зажав в кулачке свои восемь сокровищ, и присела на скамейку, предвкушая наслаждение. Неожиданно, проходившая мимо девочка, положила в мою ладошку ещё один шарик. Вторая положила тоже, третья, четвёртая… Я просто онемела! Понимала, что надо кричать: "Нет, не надо!!", но язык меня не слушался! Мне было только четыре года! Внезапно, как из-под земли, возникла моя грозная мама. Она моментально разобралась в обстановке и прекратила это безобразие. Меня же, спотыкающуюся и захлёбывающуюся слезами, повела к спальному корпусу. Дети уже стелили постели к сончасу, я же обходила кроватку за кроваткой и каждому клала на тумбочку конфетку. Очень скоро у меня не осталось ни одной. Горе, смешанное со стыдом – публичное наказание! И полное непонимание своей вины!! После этого мне было приказано приходить в столовую после всех ребят, когда питались работники лагеря. Когда у мамы находилось время, она брала меня на обед с собой.
Ещё одно привлекательное место в лагере: продуктовый склад. Там было много чего интересного, но сильнее всего манила сушёная картошка. Она была упакована в бумажные (крафтовые) мешки, и один мешок всегда был открыт. Ребятишки постоянно вились у заветной двери: авось что-то и перепадёт! Но для меня это была запретная зона. Но иногда мне всё-таки доставалось несколько ломтиков. Тамара Захаровна, тайком от мамы, прихватывала для меня в карман небольшую жменьку. Это была наша общая большая тайна. Не знаю, кто из нас при этом больше рисковал?! Не понятно, что же такого привлекательного было в этих сморщенный комочках? Не сладкие, без единой жиринки – не жареные, а сушёные – они заменяли нам все лакомства в Мире, тогда ещё совершенно нам неведомые!,
То же самое можно сказать о жмыхе. Сейчас мало найдётся не только детей, но и взрослых, которые знают, что такое жмых. Это было через несколько лет, но раз уж к слову пришлось! Наши соседи держали поросёнка и привозили для него отходы с маслобойни – это где масло растительное жмут из семечек. Это были большие прессованные пластины. Наверное, иногда попадались не вылущенные семечки или что-то ещё. Мы не разбирали, жевали всё подряд, захлёбываясь слюной. Жевали долго и упорно и только после этого выплёвывали абсолютно безвкусные жвачки. Славка – соседский сын, был признанным предводителем двора. Авторитет его, безусловно, держался на том, что он мог, имел моральное право ‒ пролезть в стайку через одному ему известную лазейку и отломить кусок лакомства. Позднее, когда его родители обнаружили утечку, он был нещадно выпорот и несколько дней не выходил во двор. Мы же все тряслись от страха: боялись, что наказание может распространиться на нас. Но до этого не дошло.
Но вот я уже школьница. Мне повезло: школа близко от дома и потом – это самая большая женская школа в городе. Почти с самого начала Войны и до прошлого года в школе располагался госпиталь, и только в этом году появилась возможность вернуть здание ГорОНО. Где учились дети все эти годы ‒ трудно даже представить! Да и сейчас классы ещё переполнены. Например, в нашем ‒ 39 девочек. 39 девочек и только 3 отца!!! Двое из-под брони: работали в оборонке ‒ и только один уцелевший – из окопов. Был он контужен, ходил всегда с палкой, и этой палкой часто наказывал дочку за непонравившиеся ему оценки. Учителя, знавшие об этом, старались не ставить ей «плохих». Класс их в этом молчаливо поддерживал. Остальные дети были либо полусироты, либо детдомовские. Детдомовки ходили в одинаковых платьях, пальтишках, валенках и всегда держались своей стайкой. Нас, домашних, они недолюбливали, но, скорее всего, просто завидовали. Мне было жалко этих девочек: хотя я сама было полусиротой, но у меня была всё-таки Бабушка.
Учебники, тетрадки и другие принадлежности нам выдавали в школе. Учителя строго следили за тем, чтобы мы берегли учебники, не вырывали листы из тетрадок. У каждого была своя чернильница-непроливайка, её приносили в небольшом матерчатом мешочке, привязанную к ручке портфеля с наружной стороны. Держать чернильницу в портфеле было опасно – она имела обыкновение неожиданно превращаться в проливайку, и тогда всё содержимое портфеля оказывалось залитым чернилами. Ручки были деревянные со "вставкой", в которую вставлялось небольшое железное перо ‒ "пёрышко". Иногда оно царапало бумагу и ставило кляксы – большие чернильные лужи – в тетради. А после кляксы в тетради появлялась противная "двойка". К каждой тетрадке прилагалась промокашка, мягкая бумажка по размеру листа. Прежде чем закрыть тетрадку или перевернуть лист, необходимо было его "промокнуть" иначе невысохшие чернила расплывались, и текст становился нечитаемым. За это тоже ставили двойки. Вот так в борьбе с чернильницами-непроливайками и кляксами проходила наша школьная жизнь до тех пор, пока не изобрели шариковые авторучки. Но мы тогда были уже совсем взрослыми.
Неподалёку от основной школы – музыкальная. Её совсем недавно открыли. Приехали в город репатриированные, оказались они музыкантами, а работать где-то надо, надо кормить себя и детей. Вот и "пробили" они через ГорОНО маленькую, самую начальную музыкальную школу. Нас с Юрой отдали туда учиться: его – на скрипку – у него оказался отличный слух, а меня, как совершенно бесталанную, на пианино. Из всех занятий запомнился больше всего хор. Весь личный состав, а было в школе в то время 10 учащихся, стоит в одну линейку, старшие в середине, а мелочь по флангам и поёт:
"Мой миленький дружок,
Любезный пастушок,
О ком ты воздыхаешь
И страсть сокрыть желаешь?
Ах, не пришёл плясать!
Ах, не пришёл плясать!"
Вот этим: "Ах, не пришёл плясать" – частенько поддразнивала нас бабушка, которая как-то пришла нас проводить и слышала наше пение из коридора. Она, как и мы, не понимала ни высокого слога: "воздыхаешь", "сокрыть", ни страстей любезного пастушка. Располагалась школа на берегу рукотворной реки Горячки. Это был деревянный короб с горячей водой, которая сливалась с какого-то предприятия, возможно, с местной ТЭЦ. Женщины и зимой, и летом приходили со всего города сюда стирать своё нехитрое военное бельишко. Горячка впадала в небольшое озерко, которое не замерзало зимой. Летом в нём купалась и даже мылась – экономили на бане ‒ ребятня и даже взрослые. Но место там было опасное: земля просела над шахтными выработками, рядом могли случиться новые обрушения. Таких мест в городе и окрестностях было несколько, ходили слухи, что кто–то где-то провалился под землю. Мы боялись. Может быть к лучшему.
О том, что у меня нет ни музыкальности, ни слуха постоянно говорили дома, и было это очень обидно. Тем более странно, что моя мама и тётя обе были педагогами – могли бы быть тактичнее. Позднее я-таки закончила музыкалку,
но не эту и не в этом городе. Да, без блеска, но нисколько не жалею о затраченном времени и силах.
На соседней улице располагалось училище фабрично-заводского обучения – ФЗУ. Иду в школу, поверх шапки и пальтишка повязана старая бабушкина шаль – это значит, что бабушка до моего возвращения не сможет никуда выйти из дому. Я иду, мороз за 20, а может быть и больше, метёт позёмка – Сибирь!! Навстречу строем ФЗУшники – их ведут в столовую. Что-то там сегодня на завтрак?! Животишки прилипли к позвоночнику, куцые шинельки, холщёвые брючки, простые ботинки, некоторые даже без носок!!! Большинство из них сироты или полусироты. Мне самой холодно, и поэтому непонятно, просто не доходит, как же чувствуют себя они. Это уже потом, когда вспомнится, слёзы наворачиваются на глаза. Жители района недовольны этим соседством. Ночами голодные пацаны лазят по подвалам: выставляют стёкла, срывают замки. Всё, что хоть отдалённо можно назвать пищей, забирают. Теперь в наших подвалах нет ни мышей, ни крыс! Им там просто нечего делать! Во времена нашего детства не знали холодильников. Семья, в которой я росла, купила первый холодильник в 1967 году – в год рождения моего сына. А в те годы, о которых идёт речь, все продукты, требующие заморозки, складывались в авоськи или сумки и вывешивались за окно. Вот благодаря этому пищевому допингу выживали эти бедные ребятишки! Они мастерили проволочные крючки и по ночам выходили на охоту. Где они потом варили свою добычу или съедали сырой? Когда-то и я разделяла гневные возмущения соседок, но сейчас… Да что об этом говорить. Они тоже были Детьми этой страшной Войны!!!
Тётю Аню переводят на работу в областной центр, и мы все переезжаем. Да и как мы можем остаться? Квартира, предоставлялась тёте, и должна быть освобождена в одночасье. Только мама не может уехать в середине учебного года. Ей разрешили жить при школе, в маленькой комнатушке на пару с другой учительницей. Она подъедет летом.
Для переезда и перевозки вещей нам выделяют на станции самый маленький грузовой вагон – теплушку, как называли их в то время. Они использовались как пассажирский транспорт довольно долго: в них уезжали на фронт солдаты, беженцы ехали в южные республики (Ташкент – город хлебный). В пятидесятых ‒ комсомольцы уезжали на Целину и на строительство новых городов и электростанций в Сибирь. А мы: тётя Аня за старшую, бабушка и двое маленьких ребятишек – ехали искать своё счастье в большой город. Вещей было мало, хотя захватили с собой всё: и железные кровати, и доски к ним, огромные столы, табуретки, связки книг. Не забыли ни курятник, ни МПС-овский диван. Несколько узлов с постелями. Ехали долго, так как нас часто отцепляли и ставили в тупик, как несрочный груз. Какой добрый человек установил в нашей теплушке печку?! С топкой, поддувалом и жестяной трубой – эти печки были тогда распространены и назывались почему – то "буржуйками". Во время вынужденных стоянок, команда, возглавляемая бабушкой, отравлялась на поиски топлива: щепок, оброненных с угольных вагонов - углярок ‒ кусков угля, промасленных тряпок и ветоши.
Однажды остановились ночью, и тётя Аня, поговорив с проходящими мимо железнодорожниками, объявила: "Приехали". Нет, совсем не так представлялся мне областной центр!! Первой мыслью было: мы приехали в ад!!! Нас отцепили на товарной станции, куда пригоняли, обычно, грузы, предназначенные для заводов. Вот эти-то заводы, со всеми ужасами их технологий, окружали нас со всех сторон. Самым страшным из них был коксохимический завод. Его агрегаты были настолько огромными, что не помещались ни в какие цеха: печи – коксовые батареи, тушильные башни, ректификационные колонны просто стояли на земле без крыш и стен. При разгрузке очередной коксовой камеры, пламя вздымалось до самого неба. Раскалённые куски кокса падали в специальный, покрытый изнутри футеровкой, вагон. Дальше – тушильная башня. Едва вагон въезжал в неё, на него обрушивались невидимые потоки воды. Невидимые, потому что они тотчас превращались в пар, который огромным белым грибом поднимался в небо. Когда, годы спустя, я впервые увидела в Хронике атомный взрыв, то сразу же узнала в нём родной КОКСОХИМ. Конечно, наш гриб был меньше и не загораживал мгновенно всё небо, но ведь видела-то я его восьмилетней девочкой!
Так где же, скажете Вы, Война? Где обстрелы, бомбёжки, ревущие самолёты с крестами на крыльях, перекрестья прожекторов? Где немецкие солдаты, топчущие своими грязными сапогами нашу родную землю? Ничего этого не было. Всё буднично и просто: сначала повестка, несколько скупых треугольничков и глухая тишина. Робкая надежда: ранен, не может писать. Да ну пусть безногий, безрукий, лишь бы живой! Почтальонов ждали и боялись. Вдруг похоронка: стандартное: "Погиб смертью храбрых" или извещение из военкомата: "Пропал без вести". Не было в наших краях ни боёв, ни оккупантов, ни салютов, ни унылых верениц пленных. Иногда, уже после Победы, бывали факельные шествия – некоторое подобие салютов. Позже, уже после войны с Японией появились пленные японцы: они работали в шахтах. Мы их видели на улицах, когда они строем проходили по проезжей части под охраной автоматчиков. Никакой ненависти к ним мы не испытывали: они и так были понурые, жалкие и, как я думаю, полуголодные.
Школу я окончила в 1958 году. Жизнь постепенно налаживалась. Отменили карточки. В магазинах стало возможно хоть что-то купить. Закончились, точнее, притупились тягостные ожидания матерей и жён. Отцы наши так и не вернулись. Но хотя мы в повседневной жизни не вспоминали и не говорили о Войне, она осталась с нами навсегда.