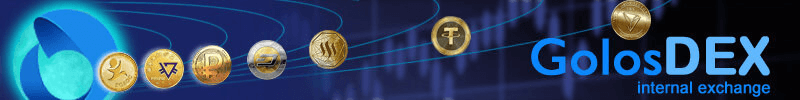"Почему же православному сознанию милее абсолютистские и даже откровенно богоборческие режимы? Почему, несмотря на заявленную "непредпочтительность для Церкви какого-либо государственного строя, какой-либо из существующих политических доктрин", в тех же "Основах социальной концепции РПЦ", хотя и с определенными оговорками, но все же отдается дань почтения средневековому мифу церковно-государственной "симфонии"? Про демократию же говорится нарочито сдержанно, что эта форма правления, характерная для секулярного общества, а "утверждение юридического принципа свободы совести свидетельствует об утрате обществом религиозных целей и ценностей, о массовой апостасии и фактической индифферентности к делу Церкви и к победе над грехом".
свящ. Александр Шрамко.

Валентин Серов. Миропомазание Николая II в Успенском соборе (1897)
Государственная власть, в отличие от общества, извечно претендовала на сакральное установление, а её представители на божественную санкцию править народом. Начиная с шумеро-акадских энов, китайских «сынов Неба», египетских фараонов, божественных законодателей древней Греции – идея сакраментального значения государственной власти (и её носителя) обретала все более продуманные и очерченные формы. Впоследствии, уже при христианстве, сюда добавляется и провиденциально-историческое значение тех или иных государственных образований. «Христианские писатели – как до, так и после Константина – почти без исключения, несмотря на преследование христианства правителями Рима, считали Римский Универсализм провиденциальным историческим фактом: благодаря ему было возможно распространять евангельское благовестие по «вселенной» …Так, между Римской империей, культурно разнообразной, но административно единой, и вселенской христианской Церковью, также терпимой к культурному плюрализму, но построенной по принципу территориального единства, существовало известное культурное сходство, делавшее союз их еще более естественным» (протопресвитер И. Мейендорф. «История Церкви и восточно - христианская мистика» С.28. М.2000 г. Изд. ДИ-ДИК, ПТСБИ).
В 312 г. произошло событие, кардинально изменившее внешнее положение мира и Церкви.
Хотя окончательный государственный статус, она получила, только при Феодосии I указом 381 г. Церковь, из гонимой становиться господствующей. При Константине Великом, этом pontifex maximus, "верховный жрец", "понтифик" (кстати, католические папы присвоили себе этот титул лишь в начале эпохи Возрождения), церковный клир не только освобождается от всех муниципальных налогов, но и принимается на содержание за счёт государственной казны. Ряд имперских законов создает предпосылки для привилегированного положения клира, а также кладёт начало юрисдикции епископов и росту их политического влияния. Константин рассматривая себя как "епископ от внешних", не только собирает соборы и председательствует на них, но также вмешивается в догматические споры, руководит прениями и определяет окончательное решение (оставаясь при этом формально язычником, что ни кого из епископов не смущает). Церковь, подчёркивая свою политическую лояльность к империи и императору, на соборе в Арле в 315 г., запрещает христианам дезертировать из армии под страхом церковного отлучения.
В IVв. мы видим как исчезают последние демократические начала, свойственные ранней Церкви. На Лаодекийском соборе (363-364гг.), рядовые верующие были отстранены от епископских выборов. Теперь кандидатов выдвигала городская знать и духовенство, а назначал митрополит. Для рабов-христиан возможность стать священником была равно нулю, так же как и для крестьянина христианина прикрепленного к земле и к своему землевладельцу.
В это же время, сказочно растёт материальное богатство Церкви. Одним из факторов пополнения этого богатства, являлся ветхозаветный принцип - дар Церкви есть дар Богу, т.е. священный и неприкасаемый. Уже в V в. Церковь является крупнейшим землевладельцем, правда эти земли облагались налогом. В указе этого времени подписанным императорами Гонорием и Феодосием, говориться, что метрокомии (большие сельские общины) будут сохранятся на основе государственного права и никто не может завладеть ими или чем-либо на их территориях; но если в метрокомиях "чем-либо овладели уважаемые Церкви, а именно Константинопольская и Антиохийская, мы предписываем, чтобы они это прочно удерживали". Не будем также забывать и о пресловутом "даре Константина", по которому начиная с 313 г., римские папы (начиная с епископа Сильвестра), получали огромнейшие светские права над городом и большей частью Северной Италии. Этот подлог был сфабрикован, в самый разгар каролингского времени, когда нужно было оправдать то, что и так уже находилось (по факту) в руках римского папы.

Только в XV в., кардинал Николай Кузанский и Лоренцо Вала опровергли эту фальшивку. Эльвирский собор, начала IV в. признаёт за епископом, правда через своих представителей, вести торговые и коммерческие операции. И хотя, в последствии, новелла императора Валентиниана III изданная в 452 г. на Западе, запрещала духовенству под страхом лишения законных привилегий заниматься торговыми предприятиями, практически она не оказала существенного воздействия. В течение всего средневековья Церковь имела монополию на всю социальную деятельность. Для того, чтобы наглядно представить себе финансовые возможности тогдашних епископов, приведу в пример одного из них, а именно, св. Кирилла Александрийского. Св. Кирилл, оказавшись в весьма трудном положении после Эфесского Собора, отдал на откуп имперским судебным инстанциям 2500 фунтов золота! Как шутил старый языческий сенатор Агорий Претекстат: "Сделай меня римским епископом, и завтра же я стану христианином". Как видим, союз Церкви с государством, оказался весьма выгодным для первой.
Существует причина, по которой Церковь не приемлет демократии, как политической формы правления и организации общества, я бы сказал – психологическая. Проблема не в том, что демократия постулирует равные, а главное неотъемлемые права человека на жизнь, свободу, собственность, безопасность и счастье. Дело в том, что демократия оперирует идеей совершенно неприемлемой для последовательного церковно-христианского сознания, а именно, народного суверенитета как основы государственной жизни.

Томас Джефферсон (1743-1826гг.), автор Декларации независимости США, провозгласил для того времени новое положение, согласно которому естественные права отдельной личности становятся законом для государства. Джефферсон считал царскую власть производной от власти народа. У народа есть право на создание и установление угодной ему политической формы правления. Одним словом, каждый народ достоин той власти, которую он посчитает для своих исторических целей наиболее отвечающей потребностям. Монархия – значит монархия, теократия или демократия, тоталитаризм или революционная анархия, решать будет народ. И только в этом смысле, "глас народа – глас Божий". И только в этом смысле, как когда-то Бог попустил Израилю монархию, нет власти не от Бога.
Желание иметь царскую власть, которая уже существовала у языческих народов (таким образом, весьма глупо звучит утверждение о богоустановленной царской власти), израильским народом было связано с осознанием своей неспособности существовать на основе возвышенных начал непосредственного богоправления и боговодительства. "В те дни не было царя у Израиля; каждый делал то, что ему казалось справедливым". (Суд. 21. 25). Не удивительно, что это желание народа вызвало раздражение и гнев престарелого судьи Самуила.

Теперь прошу максимум внимания. "И сказал Господь Самуилу: послушай голоса народа во всём, что они говорят тебе; ибо не тебя они отвергли, но отвергли Меня, чтоб Я не царствовал над ними…".
Я думаю, что для всякого непредубеждённого человека, этим сказано ВСЁ! По приказанию Господа, Самуил разъяснил народу все опасности, связанные с установление царской власти – возможность крайнего деспотизма, гнёта и своеволия царя. Однако народ не послушал престарелого пророка и потребовал своего. Не Господь установил царскую власть, она была дана как символ отступления народа от Бога. Почитайте внимательно 8 гл. 1 книги Царств, тогда перед вами восстанет весь трагизм совершённого народом деяния. "И сказал Господь Самуилу: послушай голоса их и поставь им царя" (1 кн. Царств гл. 8, 22).
Для последовательного церковного сознания - демократия принципиально не приемлема. И не только потому, что единовластие и единая воля, разбитая на бесчисленное множество воль – по большому, есть отсутствие воли вообще. Не только потому, что "воля народная", "общественное мнение", "верховное решение нации" есть в реальности фикция (на практике, зачастую мы не приходим к одному мнению по самым простым житейским вопросам), а потому, что демократия противна Церкви по элементарному отсутствию стройной и вертикальной иерархии. При всей своей действительной сложности (демократия самая сложная форма правления в истории человечества) это обязывает человека к высокой культуре – диалогу, аргументированности, общественному освещению животрепещущей проблематики и т.д. На практике демократия не существует в чистом виде.
Мы имеем дело скорее с идеей, чем с действительным фактом. Тогда простите, а почему эта идея должна заменить собой иерархическую идею, которая хотя бы на примере истории Византийской империи доказала свою пригодность и жизнеспособность. Как известно, Византийская империя просуществовала 1123 года, что выглядит весьма впечатляюще по сравнению с существованием всех известных форм политической организации известных европейскому человечеству.
Психологически, земная "воинствующая Церковь" идентифицирует себя с армией. Насколько я знаю, эту аналогию очень любят и уважают в церковных кругах. Действительно, трудно допустить демократическое начало в армии – это же нонсенс. То же и в Церкви.
Далее, не будем забывать о том огромном влиянии, которое оказал Дионисий Ареопагит (в данном случае, оставим вопрос об авторстве для историков), на цементирование представления об Универсуме, как о жёстко структурированной иерархии с Богом-Троицей во главе. У Оригена иерархия является следствием грехопадения. Для Дионисия – это нерушимый и вечный принцип. Божественный порядок и домостроительство. Иерархия столь же вечна, как вечен мир. Три "триады" – девять ангельских чинов небесной иерархии и две "триады" церковной иерархии являются органичной системой посредований. Каждый из чинов, участвующий в этой Божественной жизни и поднимающийся по иерархической лестнице (по аналогии с бюрократической иерархией), получает для этого возможность от вышестоящего чина. Движение ТОЛЬКО сверху вниз. В экклезиологии это епископ - священник – дьякон, а также монах (ангельский чин. Было время, когда монашеский постриг считался одним из таинств Церкви), мирянин – катехумен (оглашенный, грешник). Одним словом, земная иерархия есть ничто иное, как отражение вечно-неизменной иерархии небесной. Вот почему психологически церковное сознание, где высочайшей добродетелью является послушание Церкви (кстати, ветхозаветная парадигма "послушание, превыше поста и молитвы" рабочая модель), просто не может не тяготеть к государственным и таким же иерархическим структурам.
Церковь утверждает, что монархическая форма правления установлена и освещена Богом, тогда как демократия, спутником которой является секуляризация, есть продукт лживых политических начал "утвердившихся со времени французское революции" (Победоносцев). На самом деле, революции никогда не порождали демократии, а только тирании, автократии и иные тоталитарные формы правления (близкие по своей внутренней сути к монархии).
Демократия строится на принципах свободы, ответственности и равенстве личностей как перед друг другом, так и перед Богом. Свободное творчество личности сдерживается только возможностью осуществления таких же прав другими членами общества. Власть в значительной мере сужает поле своего влияния, оставляя его для других форм общественной жизни. При этом власть перестает претендовать на роль носителя "богоданного" земного устройства, признавая за собой характер "чисто земной, временной и преходящей ценности, обусловленной наличием в мире греха и необходимостью его сдерживания" (Основы Социальной Концепции Русской Православной Церкви).
Только та власть будет полезна народу, что рождена его собственным самосознанием. Не навязанная сверху, не возникшая в порыве революционного экстаза, а последовательно выращенная, органически связанная с "телом" и потому понятная и, что самое важное, неотделимая от народа. И в этом смысле справедливо будет послушание такой власти, а также естественным будет забота этой самой власти о своём народе.
P/S. В аду, если следовать описанию Данте, жестко-структурированная иерархия. Своеобразная адская канцелярия с бюрократическим "грузом наказаний" в виде тяжести прегрешений.
Трагедия Церкви и в частности Русской Церкви (не будем забывать, что крепостное право в России было отменено лишь в 1861 г.) заключается в том, что она продолжала и продолжает воспринимать себя как неотъемлемую часть государственной власти. Ищет свое теплое место даже рядом с откровенно богоборческими режимами, при явном пиетете пред монархической формой правления.


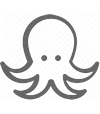

.png)