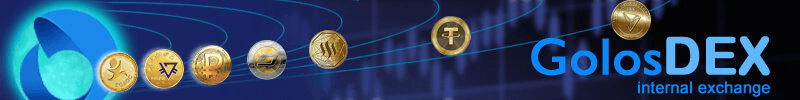Важно помнить: "Воля к власти" — посмертная компиляция заметок Ницше, составленная его сестрой Элизабет Фёрстер-Ницше и её сотрудниками (включая Петера Гаста), которая исказила многие идеи философа, приблизив их к нацистской идеологии. Элизабет Фёрстер-Ницше, была убежденной национал-социалисткой и антисемиткой. Она сознательно редактировала и переставляла фрагменты так, чтобы представить философию брата в свете, близком к её собственным идеологическим воззрениям, которые сам Ницше при жизни неоднократно критиковал (наприм., он открыто выступал против антисемитизма). Элизабет убирала или меняла местами пассажи, противоречащие её идеологической трактовке. Именно эта сфабрикованная версия "Воли к власти" (а также её деятельность по управлению Архивом Ницше и продвижению именно этой версии) стала основным источником, из которого нацистские идеологи черпали мысли для оправдания своих жестоких действий, расовой теории и милитаризма. Поэтому анализ требует осторожности: цитаты, приведенные ниже, отражают интерпретацию идей Ницше, чем систематичную доктрину. Тем не менее, "Воля к власти" остается важным сборником, который позволяет обсуждать ключевые темы критики христианства и влияния Ницше на Европу, поскольку он состоит из подлинных заметок и афоризмов философа.
Нужно понимать, эти идеи, даже в искажённой форме, несут в себе яд элитарного нигилизма. Христианство отвечает на них не страхом, а твёрдой верой в достоинство каждого человека, созданного по образу Божию — вне зависимости от силы, ума или статуса.

"Что отличает нас, действительно хороших европейцев, от людей различных отечеств, какое мы имеем перед ними преимущество? Во-первых, мы - атеисты и имморалисты, но мы поддерживаем религии и морали стадного инстинкта: дело в том, что при помощи их подготовляется порода людей, которая когда-нибудь да попадает в наши руки, которая должна будет восхотеть нашей руки".
Ницше проводит границу между "сильными" ("хорошими европейцами") и "толпой". Христианская мораль, по его мнению, — инструмент "рабской этики", которая подавляет волю к власти, превращая людей в покорное и послушное для правителей "стадо". Такие христианские добродетели как смирения, сострадания и отрицания земной жизни ради "благ будущего мира", по его мнению, ослабляет человечество. Подавляет естественные инстинкты, индивидуальность и волю к власти — фундаментальное стремление каждого живого существа к росту, расширению своего влияния и преодолению себя. Эта "стадная мораль" препятствует появлению выдающихся личностей — сверхчеловеков, способных создавать собственные ценности. Христианство возникло из чувства ресентимента (злобы, обиды) слабых, угнетенных людей (рабов) по отношению к сильным, знатным "господам". Чтобы отомстить своим угнетателям, слабые произвели "переоценку ценностей": все то, что изначально считалось "хорошим" (сила, гордость, здоровье, богатство, мужество), было объявлено "злым". И наоборот, качества, присущие слабым, были возведены в ранг абсолютного "добра".
Ницше "поддерживает" религию, но только как инструмент управления. Это напоминает макиавеллизм: христианство используется для создания послушной массы, которую позже возглавят "сильные духом". И вот почему. Христианская мораль, со временем, стала эффективным инструментом социального контроля, поддерживающим посредственность и подавляющая тех, кто мог бросить вызов установленному порядку. Такой подход разрушает искренность веры, превращая её в средство циничной манипуляции.
Критика христианства Ницше подорвала доверие к традиционным ценностям в Европе, особенно среди интеллектуалов XIX–XX вв. Его философия стала мощным катализатором переоценки устоявшихся моральных и религиозных догм и повлияла на множество направлений европейской мысли. Она же способствовало образованию вакуума, который быстро заполнили новые модные идеологии (фашизм и национал-социализм, коммунизм и марксизм-ленинизм). Хотя коммунистическая идеология опиралась на совершенно другие философские корни (Маркс), она также стремилась заполнить идеологическую пустоту, предлагая свою собственную всеобъемлющую систему ценностей. Ницше пророчески видел опасность нигилизма — состояния, когда старые ценности рухнули, а новые еще не созданы. Именно в этот период моральной и экзистенциальной неопределенности XX века Европа оказалась восприимчива к харизматичным, мобилизующим идолам новых политических религий — тоталитарным идеологиям, которые требовали абсолютной веры и предлагали простые, жестокие решения на сложные вопросы человеческого существования. Для христианской культуры это означало утрату монополии на этику и духовность. Провозглашение им "смерть Бога" означало, что универсальный, абсолютный источник морали, гарантированный Божественным порядком, перестал быть общепринятым фактом европейской культуры.
"Мы по ту сторону добра и зла, но мы требуем безусловного признании святыни стадной морали. Мы оставляем за собой право на многоразличные виды философии, в проповеди которой может оказаться надобность; таковой при случае может быть пессимистическая, играющая роль молота; европейский вид буддизма тоже при случае может оказаться полезным. Мы будем, по всем вероятиям, поддерживать развитие и окончательное созревание демократизма: он приводит к ослаблению воли; на социализм мы смотрим как на жало, предотвращающее возможное душевное усыпление и леность".
Хотя Ницше видит в демократии и социализме полезные инструменты для ослабления масс, он же использует их для подготовки почвы для "владык будущего". Демократия, по Ницше, уравнивает людей, лишая общество героев и гениев. Ницше был убежденным критиком демократии и эгалитаризма (идеи равенства), считая их продолжением "рабской морали" христианства, которое ведет к усреднению человека, торжеству посредственности и подавлению великих личностей. В результате люди превращаются в покорное, предсказуемое и управляемое "стадо", которое ценит безопасность и равенство выше свободы и индивидуального величия. Вместо демократии Ницше выступал за радикальную аристократию или иерархическое, орденское общество, в котором правят немногие избранные и выдающиеся индивиды, способные вести человечество к его высшим целям.
Христианская идея равенства перед Богом сталкивается с ницшеанской иерархией "сильных" и "слабых". Христианство проповедует общность и призывает к милосердию, а Ницше — соперничество и волюнтаризм.
"Наше положение по отношению к народам. Наши предпочтения; мы обращаем внимание на результаты скрещивания. Мы - в стороне, имеем известный достаток, силу; ирония по отношению к "прессе" и уровню ее образования. Забота о том, чтобы люди науки не обратились в литераторов. Мы относимся презрительно ко всякому образованию, совместному с чтением газет и в особенности с сотрудничеством в них. Мы выдвигаем на первый план наше случайное положение в свете (как Гете, Стендаль), внешние события нашей жизни и подчеркиваем их, чтобы ввести в обман относительно наших задних планов. Сами мы выжидаем и остерегаемся связывать с этими обстоятельствами нашу душу. Они служат нам временным пристанищем и кровом, в которых нуждаются и которые приемлют странники, мы остерегаемся в них приживаться".
Ницше справедливо критикует СМИ и массовое образование за упрощение мысли. Для него эти институты были частью демократической тенденции, ведущей к "стадной" и посредственной культуре. Для него настоящее просвещение — удел избранных, способных к глубокому философскому прозрению. Настоящее просвещение (образование, формирование личности), — это удел избранных, способных к критическому мышлению, творчеству и самопреодолению. Цель образования должна состоять в формировании культурной элиты, способной создавать новые ценности и вести человечество к высшим достижениям, а не в удовлетворении потребностей массы. А чтобы бы Ницше сказал о современной массовой интернет культуре?
"Вы называете это свободой? Это новая тюрьма! Ваши лайки — цепи, репосты — молитвы перед идолами-алгоритмами. Вы бегаете в колесе бесконечных трендов, как крысы в лабиринте, выдуманном программистами-апостолами толпы. Раньше христианство говорила: "Верь!" — теперь монитор шепчет: "Соглашайся!" И вы соглашаетесь, потому что боитесь одиночества в толпе из миллиардов безликих аватаров. Ваша анонимность — не свобода, а трусость! Вы не играете ролью, как Гете или Стендаль, вы теряете себя в бесконечных аккаунтах, как последний человек, который боится даже собственного отражения в зеркале. Вы превратили мудрость в контент! Сократ вписал бы свою диалектику в твит? Кант сократил бы "Критику чистого разума" до трех хештегов? Вы требуете от вечных вопросов мгновенного ответа — и получаете вечную посредственность. Ваш "поток знаний" — это болото, где каждая капля кажется океаном, но не может утолить жажду духа. "Тот, кто торопится к истине, чаще всего ловит только ее тень". Вы создали последнего человека с гаджетом в руке! Он не хочет власти, не хочет риска — он хочет уведомлений. Его высшая добродетель — "не обижать". Его религия — "лайкнуть всё". Он говорит: "Я открыт ко всем мнениям" — но это не открытость, это пустота. Он не готов умереть за идею, он готов заснуть под потоком подкастов о "саморазвитии". Это не человек будущего — это эпилог истории!"
Ницше увидел бы в соцсетях апогей "стадного инстинкта": алгоритмы формируют коллективное бессознательное, где индивидуальность растворяется в трендах. Вместо газетных заголовков — клипы, мемы, 15-секундные "истины". Это не просвещение, а цифровая дрессировка: человека учат реагировать, а не мыслить. Для Ницше интернет стал бы символом победы скорости над смыслом. Как меня часто упрекают: "Аффтар у вас много букффф"!
Однако, Ницше не был бы пессимистом до конца. Он добавил бы с иронией:
"Впрочем, этот хаос — прекрасная арена для тех, кто смеет. Где толпа видит шум, сильный услышит призыв к битве. Где алгоритмы дают готовые ответы, философ вырвет вопрос из их паутины. Интернет — это новый пустынный остров: для слабых он станет тюрьмой, для сильных — тренировочной площадкой для воли к власти. Для тех, кто осмелится удалить приложения, чтобы услышать голос собственной совести. Для тех, кто откажется от одобрения толпы, чтобы стать законодателем новых ценностей.
"Мы имеем преимущество перед нашими собратьями людьми. Вся наша сила тратится на развитие силы воли, искусства, позволяющего нам носить маски, искусства разумения по ту сторону аффектов (также мыслить "сверхъевропейски", до поры до времени). Приуготовление к тому, чтобы стать законодателями будущего, владыками земли; по меньшей мере, чтобы этим стали наши дети".
Здесь проявляется ключевой мотив Ницше — воля к власти как основа бытия. "Маски" символизируют отказ от искренности ради стратегического доминирования. Христианство требует искренности и отрицает лицемерие. Ницше же превращает лицемерие в добродетель для элиты. Идея "владык земли" (тесно связанная с концепцией "сверхчеловека") категорически отрицает и прямо противостоит христианскому мировоззрению. "Владыки земли" — это высшая каста, элита, которая обладает правом устанавливать новые законы и ценности. Они стоят над людьми.
Ницше призывал оставаться верными земле. Сверхчеловек и владыки земли реализуют свое величие здесь и сейчас, они утверждают жизнь, а не отрицают ее ради потустороннего мира. "Владыки земли" — это воплощение "воли к власти" в её наивысшем проявлении. Они не проповедуют сострадание к слабым, а управляют, преодолевают препятствия и утверждают свою силу. Они создают ценности, а не следуют божественным заповедям. Это прямой вызов всему христианскому мировоззрению. Нужно осознавать, что "владыки земли" — это условный образ "законодателей будущего" у Ницше, а не реальная политическая программа.
Парадокс Ницше в том, что он мечтал о человеке, свободном от моральных пут, но его философия всегда вела к новым формам чудовищного рабства — культурного, политического, духовного. Важно понимать, что хотя Ницше и критиковал христианство как "плебейскую" религию, но сам не одобрил бы его замену на нацизм или коммунизм. Его философия — призыв к индивидуальному преодолению оков, а не безликой коллективной диктатуре. Как он писал в "По ту сторону добра и зла. Прелюдия к философии будущего": "Кто сражается с чудовищами, тому следует остерегаться, чтобы самому при этом не стать чудовищем. И если ты долго смотришь в бездну, то бездна начинает смотреть в тебя". Эта цитата служит предостережением тем, кто считает, что может оставаться морально неприкосновенным, участвуя в борьбе против зла.
Ницше был не просто критиком христианства — он предложил радикальную альтернативу, где человек создаёт смыслы и ценности сам. Это дало Европе свободу от церковных догм, но лишило традиционных нравственных ориентиров. Христианская культура столкнулась с необходимостью переосмыслить свою роль в мире, где Бог "умер". Для верующих это вызов к поиску подлинной (а не формальной) веры. Для общества — урок: огульное отрицание традиций всегда приводит к ужасу.
Более ста лет назад Ницше провозгласил: "Бог умер". Но умер ли Бог на самом деле — или умерла вера в Него у тех, кто возомнил себя "владыками будущего"?
Сегодня, когда алгоритмы формируют наше сознание, а "последний человек" предпочитает уведомления подвигу, Ницше звучит тревожнее, чем когда-либо. Но христианство отвечает не страхом — а верой в то, что каждый человек достоин, не потому что он силен, а потому что он создан по образу Божию. В конце концов, проблема не в том, умер ли Бог — а в том, умерла ли в нас способность видеть Его в ближнем?