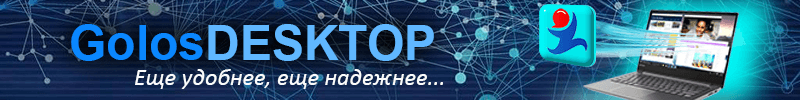Вместо предисловия: простите, что в последнее время я нечасто публикую контент на платформе; тому есть ряд причин, и оглашать их я пока не хочу. На некоторое время приостановлена работа с инфографикой для Голоса и съёмки "Биржи Вдохновения". Думаю, однажды и эта река вернётся в своё русло, но, увы, не сейчас. Тем не менее, я буду продолжать делиться с вами своим творчеством по мере возможности.
Итак, глава из ранее упомянутой книги под черновым названием "Житие бабочки-поденки". Приятного прочтения.

Речка тонкой верёвкой тянулась на юг, несла свои воды далеко-далеко, к Оке, затем к матушке Волге и, в конце концов, обретала покой в Каспии. Каждый день она боролась за свободу, за простор, за жаркое солнце астраханской области, преодолевая пороги и плотины, омывая берега городов, сглатывая седую пыль заводов. Наверное, обидно было ей найти пристанище в желудке истощавшего изгоя, когда её устремления были так далеки, когда она, щурясь на первых километрах своего пути от дневного света, только-только набирала разбег.
Я сделал первый глоток, нарушив своими движениями неспокойные мысли молодой реки, я забирал у неё жизнь, а она, бессмертная, продолжала свой бег, нахально подмигивая мне отблесками утреннего солнца. Я ей завидовал. Она стремилась к свету, мчалась к свободе и покою; сильная и непоколебимая, щедрая в своей нищете. Ей было всего шестнадцать километров, но в своём величии она могла состязаться с самой Окой.
Когда я бежал из города, всё было наоборот. Тогда, в самом начале моего пути, я бредил ответами, верил, что здесь, вдали от шума трамваев и метро, я обрету человечность, пойму первопричины того, что со мной стало. Но я двигался в обратном направлении, от устья к истоку, и теперь большая жизнь города, в которой были те, кто мог бы мне помочь, казалась мне четвёртым кругом ада, миром ненависти, жадности и гонений. А исток на горизонте так и не появлялся. По-видимому, русло моей реки не то запрудили, не то она и вовсе пересохла, и теперь я был слишком слаб, чтобы стремиться к Каспию, к астраханскому солнцу, я доживал свой век в смирении. Уже и не помню, где и как началась моя история. Впрочем, это не так уж и важно; важна точка невозврата, момент, когда я принял решение покинуть город, исступлённо глядя за горизонт событий.
Тогда я жил на северо-востоке Москвы, где текли мутные воды скупой Яузы, где в городских парках покоилось больше тайн, чем в самом жутком и тёмном лесу республики Саха, и где люди никогда не спали. Как роботы, они отключались, подзаряжались от батареи и включались снова, чтобы служить городу до тех пор, пока не износятся все механизмы. Сломавшись раз, они больше никому не были нужны; на место одного робота приходилось два новеньких, заправленных маслом энтузиазма и веры в то, что живут и работают они «для себя». Они наводняли вагоны метро и салоны автобусов по утрам, матерились в пробках вечерами, в обед отстаивали очереди в заводских столовых за тарелкой вчерашнего риса и подгнивших овощей, а ночью покорно закрывали глаза, бредя «новым днём, который будет совсем другим». Системность была во всём: в их «с добрым утром», в «спасибо» и «пожалуйста», в кетчупе к макаронам, в нажатии кнопки лифта, в шпильках к юбке и счетах за свет. Даже их оригинальные мысли были системны. Анархизм, капитализм, неофашизм – всё то, что по мнению роботов делало их «уникальными», было частью давным-давно сложившейся системы. Разница была разве только в том, что одни со своей системностью смирились, а другие продолжали бить себя кулаком в грудь, величаясь «единственными в своём роде». Так что глупо говорить о том, что я был каким-то особенным, просто система моя была иной, она подчинялась законам улицы, но не законам города. Моя жизнь сводилась к борьбе за еду, за ночлег, за сочувствие окружающих, к ежедневной войне с отчаянием и желанием просто сдохнуть за углом. Никто бы и не заметил.
В самом начале своего пути я свято верил, что я иду верной дорогой, уготованной мне предками, полагал, что ежедневный ритуал поиска и поглощения еды есть основа, на которой зиждется моё счастье. В какой-то момент я просто оглох и ослеп, затерявшись в безветрии города. Я даже не бросал якорь: не было ни волн, ни течения; и стоячая вода моей жизни всё более напоминала мёртвое болото. Инертность – что может быть страшнее, чем впасть в омут безразличия и апатии? Из пучины, в которую меня увлекала собственная глупость и лень, я выбрался по воле случая. Бывают моменты, когда в голове что-то щёлкает и весь мир вдруг меняется, вызывая острый приступ боли и паники, потому что ты понимаешь: штиля тебе больше не видать.
В тот день было жарко, и я лежал на холодных каменных ступенях у входа на станцию. Я находился в том приятном состоянии дрёмы, когда ты почти соскользнул в подсознательное, но всё ещё распознаёшь звуки и запахи реальности, слышишь шорох платьев, гудки машин и топот сотен загорелых ног.
− А ты знаешь, я ведь тогда чудом спасся. Сидел в самом углу поезда, но мне до сих пор снится этот чёртов вагон. Просто кровавое месиво, жалко, что помню всё это, хотел бы забыть. А ещё утро ведь было, народу полный вагон, душно. А потом – шум, крики – жесть, короче.
− Сколько погибло-то?
− Не помню, человек двадцать точно, может тридцать. Ещё столько же наверно инвалидами остались. Не знаю. Живи потом с этим. Выбрал место в углу – повезло, а сел ближе к началу – и хана. Парень со мной в одном вагоне ехал, наш ровесник, на одной станции зашли. Сел в начале вагона, к дверям поближе, видно было, что спешил куда-то, на часы смотрел… А через минуту уж и нет парня. Приехали. Смерти-то похеру, сколько тебе лет и куда ты там торопишься. Вагон – битком, у всех работа, время поджимает, спешили, с-ка… А ведь прикинь, как кого-то пронесло, кто на поезд не успел? Стрёмно жить после этого. Был человек и нет человека.
Дальше я не слушал. Там, на границе подсознательного, я слышал хруст ломающихся рёбер, скрежет металла и лязг тормозов поезда. И видел тёмные как ночь глаза девушки, сидящей напротив.
С первыми главами романа вы можете ознакомиться здесь:
Глава 1