
Когда я учился во втором классе, мы с мамой снимали комнату в северодвинской квартире на улице Мира. Очень строгая хозяйка с дочкой-шестиклассницей обитали в большой комнате, а мы в маленькой. Жили дружно. За деньги всегда дружно живётся.
Шестиклассница мне тогда казалась секс-символом города. Про секс я тогда, конечно, ничего не знал, и слова такого не знал. Но мне она казалась взрослой женщиной.
Как и всякая взрослая женщина, она была безумно влюблена. Её пассией оказался мужик, тьфу, восьмиклассник из соседнего подъезда. Она каждое утро прибегала к нам в комнату, как раз, когда мама уже выходила на работу, и расплющивалась о стекло. Высматривала, как пацан будет выходить из подъезда. Я в то время про такие страсти не знал и сам ни к кому не испытывал, поэтому следил за развитием сюжета с огромным вниманием и любопытством.
В свободное от своей неразделённой любви время она разговаривала со мной о болонке. Это была её вторая и единственная мечта всей жизни. Все её обложки тетрадок и альбомные листы были изрисованы мохнатой мордой. Болонок я не любил, потому что в то время это была чересчур модная порода и их в городе было на порядок больше, чем жителей.
Когда её мама возвращалась с работы, Нина (во, имя даже вспомнил) начинала канючить:
— Мамочка, ну давай болоночку купим...
— Нина, сколько можно?
— Мамочка, я хорошо учусь, по дому помогаю, давай купим?
— Ты наиграешься и бросишь, а мне потом её выгуливать, кормить, мыть, поливать.
— Ну мамочка...
Такой петлевой сценарий. За полгода я уже сам эту сцену мог проговаривать их голосами.
Количество рисунков над столом Нины росло, а мальчик продолжал выходить в школу. Ничто не предвещало беды.
В этот день я услышал топот ног по лестнице, грохот ключей и протяжное «А-а-а-а!» Нины.
Прообежав весь коридор, она ворвалась в кладовку, а я подошёл и, немного послушав, сел под открытую дверь.
Кладовка — это не то, что вам подумалось, там какой-то хитрый проект был городского дома, где в кладовку спокойно помещалась односпальная кровать, тумбочка, куча полок и даже радиоточка. Такое место-купе, как у проводников.
Нина плакала. Вся в слезах, она держалась за ляжку, высоко задрав школьную коричневую юбку. И что-то яростно натирала. Слёзы лились из глаз, лицо было похоже на тряпочку для протирки столов.
— Нина, что с ногой?
— Это всё он! Ненавижу его! Ненавижу!
Со стен полетели его фотографии. Ну как фотографии? Что там можно было снять на «Смена 8М»? На таких фотографиях себя можно было узнать, если помнишь, где стоял и кто рядом с тобой был во время щелчка затвора фотоаппарата. Тем не менее, фантом её возлюбленного срывался со стен и крошился в длинные полосы. Шредер тогда ещё не изобрели, Нина могла бы вполне стать его прототипом.
Радиоприёмник цвета слоновой кости радостно верещал о правильных пионерах, которые собрали много метллолома, сдали его Родине, а она его расплавит и сделает паровоз, вот! И назовёт его «Пионерский».
Нина плакала. Вот именно плакала, а не рыдала. Не навзрыд, как, казалось бы, должно быть. А плакала так тихо, всхлипывая. Как-то так беззлобно проклиная восьмиклассника. Потом она затихла, встала, пошатываясь, обняла дверной косяк:
— Серёжа, помоги мне убраться, мама скоро придёт.
Я зашёл в купе. Все фотографии молодого человека были порваны на длинные полоски. Эти полоски полностью закрыли весь пол, валялись на тумбочке, на кровати и на подушке.
Такое складывалось впечатление, что Родина всё-таки выплавила тот паровоз и он только что пронёсся через нашу кладовку.
Собирал их все я один. Она начинала собирать тоже, но срывалась в своё «ненавижу» и тыкалась лицом в подушку.
И тут пришла её мама.
— Что у тебя с лицом? Ты себя видела? Ты что, «четвёрку» получила? «Тройку?!»
— Ничего я не получила.
— Тогда что?
Мать схватила Нину в охапку и стала вертеть, осматривая.
— Говори, что случилось.
Нина молча задрала юбку и мы все увидели высоко, почти у самых трусиков, яркий вдавленный след как будто от маленькой подковки.
Как будто её эльфийский коник лягнул.
— Это что такое?
— Хулиганы.
— А кто именно?
— Не знаю!
И тут Нину опять прорвало, она упала в подушку и, икая, затвердила своё «ненавижу». Её спина тряслась, руки закрывали лицо, сквозь пальцы текли слёзы.
Её мама стояла в растерянности. Она работала маляршей на судостроительном заводе и растрогать её было нереально вообще никогда и никому. Такая женщина-агрегат, Нонна Мордюкова шахтёрского периода. Статуя незыблимости, оплота и покоя.
— На тебе 10 рублей, иди купи болонку — отчеканила мать.
К слову сказать, мы за комнату платили 15 рублей. Это были большие деньги. Моя мама получала 90 рублей.
Нина перестала плакать, оторвалась от горя. Но радости на лице не было. Мать развернулась и ушла на кухню готовить ужин.
Я сидел с Ниной на кровати и молчал. Радость за болонку была какая-то ненастоящая. Вчера мы бы с ней на ушах стояли от радости, а сейчас болонка казалась какой-то хуйнёй. Хотя я слова такого тогда тоже не знал.
— Нина, так что случилось-то?
— Я после школы дождалась, когда он будет выходить и пошла впереди, чтобы он видел. Он с друзьями шёл, они мне всякое обидное кричали.
— А он?
— Он ничего не говорил. Он достал рогатку и выстрелил мне вот сюда алюминиевой шпулькой. Так больно было! Я чуть не закричала. Но обернулась, улыбнулась ему и сказала: «Не больно!». Это уже у подъезда почти было. Еле дошла, так больно было, что ногу еле переставляла. А как вошла в подъезд, сразу заплакала.
— И что теперь?
— Завтра утром посмотрю, как ему не стыдно будет из подъезда в школу выходить.
Но утром она не пришла в нашу комнату.
Болонку так и не купили. Это были огромные деньжищи и Нина, подумав, отказалась от подарка. Её мама взяла червонец, положила в небольшую картонную коробку и сказала:
— Это твои деньги. Не потрать их на ерунду.
Так Нина стала ещё и самой богатой девочкой школы. А может, и района.
Через несколько дней Нина протиснулась в комнату:
— Серёжа, идём в кладовку, я тебе что покажу!
Я быстро оделся и побежал по коридору к кладовке. Нина сидела на кровати и держала в руках какой-то мохнатый бумажный ком.
— Ну как, похоже?
Я вгляделся: на меня смотрела морда болонки, сделанная из тонких полосок бумаги. Вот прям, как настоящая! И глаза-бусинки пришиты были. И язык алый торчал лопаткой.
— Ух ты! А как ты сделала?
Нина, отодвинув в сторону болоночью морду, любовалась ею и своей работой.
Я подошёл поближе и обомлел: вся эта морда была сделана из тех самых полосок, которые Нина тогда нарвала и которые я убрал.
Сквозь бумажную мохнатость на меня смотрел хулиган Саша. То одним глазом, то всем лицом, то просто силуэтом. Везде виднелись его то руки, то ноги, то плечи, то гитара.
Нина в этот день была весёлой и смеялась. Красивая взрослая женщина, пережившая предательство.
Вечером мы сидели на её кровати, Нина делала уроки и разговаривала со мной о всякой женской ерунде. Саша ушёл в прошлое, она с девочками выращивает в теплице какой-то пион и скоро его повезут на конкурс. Красивый почерк аккуартно ложился на тетрадный листок. Нина была отличницей и всё делала очень красиво. Мне безумно нравилось смотреть, как буквы выстраиваются в слова, слова в предложения.
Моим почерком можно было только на заборах писать: у меня никогда слова не помещались в строку. Доходили до края и расплющивались, как пионерский поезд, налетевший на БАМ.
Беседу прервала радиоточка:
— А сейчас, по многочисленныйм заявкам, мы передаём в эфире песню «Позови меня на свадьбу».
Зазвенели инструменты, певица запела что-то про любовь.
Буквы на тетрадном листке замедлили свой бег. Рука переставала метать бисер, пока совсем не остановилась.
«Видно просто не дождались мы любви» — тянул голос из пластмассовой коробочки.
— Сашааааааааа! Ааааа! — Нина выронила ручку и, схватив подушку в охапку, заревела в неё в полный голос. Громко, как на похоронах.
Она рыдала и стонала, то отрывая голову, чтобы набрать воздуха, то опять обрушивая своё горе в пух и перья.
Я незаметно слез с кровати и тихонько вышел, оставив дверь открытой.
В конце коридора у тумбочки с телефонным аппаратом сидела мама Нины с поджатыми строгими губами, хаотично поправляяя на себе передник и глядя в пол.
Мы встретились глазами. Я впервые увидел в её железобетонных глазах навернувшиеся слёзы. Она отвернулась. А я тихо зашёл в свою комнату.
Наверное, все девочки так выходят из детства. Бедные. А потом им ещё и рожать. Пойдук-ка я, пива куплю.






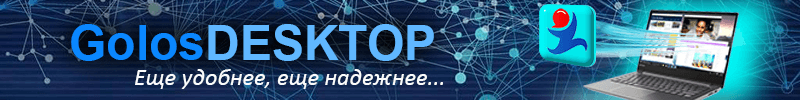
Мне понравилось)))