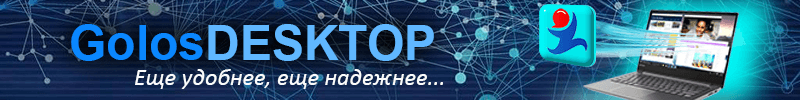Дуалистические представления, после чтения Ветхого и Нового Заветов, это проблема не сегодняшнего дня. То, что евангельский Бог совсем не похож на Бога Ветхого Завета люди понимали очень давно. Сегодняшние интеллектуальные баталии по этой теме, были не менее (а в действительности, более яростными) актуальными, чем на заре христианства. Я уже писал, что для Ветхого Завета дуалистический взгляд на источник добра и зла в высшей степени нехарактерен (хотя надо отметить, что новые воззрения межзаветного периода сказались на Септуагинте, греческом переводе Ветхого Завета, выполненном примерно в III-II вв. до н.э.). Так, в книге пророка Исаии (45: 7) читаем: "Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия; (в других текстах "зло" - прим. мое) Я, Господь (Яхве), творю всё это".
"Так говорит Господь, Царь Израиля, и Искупитель его, Господь Саваоф: Я первый и Я последний, И кроме Меня нет Бога". (Ис. 44:6).
Израильские пророки, носители идеи единобожия (монотеизма), остро чувствовали ложь и соблазн противопоставления твари, в любом ее виде, пусть даже и в ангельском, заслоняющей великого Творца. Могущественный Сатана - ведь это ещё и "ангел гнева Господня". Сравним два текста имеющих внутреннюю связь.
"Гнев Господень опять возгорелся на Израильтян, и возбудил он в них Давида сказать: пойди, исчисли Израиля и Иуду" (2 Цар., 24:1)
"И восстал сатана на Израиля, и возбудил Давида сделать счисление Израильтян". (1 Пар., 21:1)
И хотя в противопоставлении Единого Бога иным богам, взгляд на них как на бесов свойственен ветхозаветному иудейству: "Яко вси бози язык бесове" (Пс. 95:5). "И приносили сыновей своих и дочерей своих в жертву бесам" (Пс. 105: 37). "Богами чуждыми они раздражили Его, и мерзостями (своими) разгневали Его. Приносили жертвы бесам, а не Богу" (Втор. 32:16-17), понимание "бесов" отличалось от того смысла, который сегодня вкладываем в это слово мы. Это ветхозаветное понимание сводилось к тому, о чем писал ап. Павел к Галатам (Гал. 4: 8-9): "Но тогда, не знав Бога, вы служили богам, которые в существе не боги. Ныне же, познав Бога, или, лучше, получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им?" Языческие боги истуканы-симулякры и, по сути, их нет. Для современного христианина-обывателя, бесы вполне субъекты в деле виртуозных искушений как деяний, так и помыслов.
Если уж где-то и могла начаться многовековая интеллектуальная битва, на бескрайнем "поле" противоположности Творцу Его мрачного антипода (антибога?), то только в христианстве. В иных дуалистических верований, этот дискурс не носит экзистенциальный характер. Чего точно нельзя сказать о раннем христианстве. Дело в том, что связав свою судьбу с Ветхим Заветом христианство не могло не избежать и всех его противоречий. Одно из них и является темой моей статьи. Без этого противоречия, история дуалистического дискурса в христианстве, могла бы иметь совершенно иной характер. Да, разумеется, доктринально христианство преодолело онтологический дуализм, но он мимикрировал в дуализм мировоззренческий: миров горнего и дольнего, сонма небесных сил и полчищ злых духов, сакрального и мирского, духовного и телесного, добродетелей и грехов и т.д.
Как хорошо известно, еврейское "Пятикнижие" ("Учение" (tōrā)), а точнее, "Берешит" ("В начале") содержит два описания происхождения мира и человека. В научной литературе они получили названия "Яхвист" (он обозначается символом J, начальной буквой имени Jahwe) и "Элохист" (обозначается символом Р, от немецкого слова Priestercodex - "Священнический кодекс"). Его составление относят ко времени вавилонского плена (597—539 до н.э.) и возвращения из него.
В последствии, библеисты разделили "Элохиста" на ещё два источника - "Элохист I" (он же "Жреческий кодекс", поскольку "Второзаконие" - это самостоятельный источник) и "Элохист II" (далее: "Элохист"). И ещё. Элохим — еврейское нарицательное имя Бога, Божества; множественное число от Эль, общего названия для божества у семитских народов. Айзек Азимов в своей книге: "В начале" пишет: "С точки зрения христиан, рассматривающих своего Бога как Троицу – Отца, Сына и Святого Духа, употребление множественного числа как раз легче всего объяснимо. Это просто общение между всеми тремя ипостасями, их внутренняя беседа… Очень интересная мысль, все как будто расставляющая на свои места. Если бы не одно «но»: нигде в Ветхом завете нет ни намека на то, что евреи признавали идею Троицы".
Я сейчас не буду останавливаться на детальном рассмотрении всех проблем связанных с этой интересной темой (иначе пришлось бы писать скучную книгу), а выделю главное. У "Элохиста" (Быт. 1: 1 - 2: 3) история мира и человека представлена таким образом. Бог творит шесть дней, а затем берет "день покоя". Творит человека по "образу Своему и подобию". Творит сразу же мужчину и женщину. Причем, они оба отражали величие их "божественного оригинала". Бог доволен тем, что Он создал ("И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма"). Благословляет всё, что Он создал включая человека (мужчину и женщину). Цель творения первых людей (выраженная в благословении) - плодиться и размножаться, наполнять землю, и владеть ею, властвовать над всеми животными!
У "Яхвиста" (Быт. 2:4-24) дело выглядит иначе. Творение мира происходит без перерывов ("день покоя" отсутствует), а качество созданного никак не оценивается. Женщина создаётся отдельно от мужчины (создание животных происходит после создание человека), что подчеркивает её подчиненное положение (в дальнейшем, это вылилось в её дискриминацию). Никаких благословений нет. Есть только грозное предупреждение: "ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь" и дальнейшие проклятия (Быт. 3: 14-19). Цель творения человека - возделывать и охранять Эдемский сад (букв. "Сад Блаженства", "Сад в стране Блаженства"). Проще говоря, цель человека в служении Яхве.
Это к проблеме "Замысла Творца".
В первом варианте, "Замысел Творца" заключается в свободном и творческом освоении людьми мира. Во втором, покорности и служении Богу.
.jpg)
Да, что очень важно, текст "Яхвиста" более древний. "Элохист" представляет Бога существом недоступным человеческому глазу и творящим мир одним Своим велением. "Более ранний автор Яхвиста представляет себе Бога в конкретной форме, как существо, которое говорит и действует подобно человеку, которое лепит человека из глины, разводит сад, гуляет в этом саду в часы дневной прохлады, призывает к Себе Адама и Еву, спрятавшихся за деревьями, делает им одежду из кожи вместо слишком легких из фиговых листьев, которыми наши прародители стыдливо прикрывали свою наготу. Очаровательная наивность, почти веселый тон более раннего рассказа составляет прямой контраст с важной серьезностью позднейшего, хотя в то же время нас поражает некоторый налет грусти и пессимизма, пробивающийся сквозь яркие краски, которыми яхвистский художник рисует нам жизнь того невинного века. В особенности же он почти не пытается скрыть своего глубокого презрения к женщине. Появление на свет женщины в последнюю очередь и самый способ ее сотворения - необычный и унизительный - из ребра ее господина и владыки, тогда как все низшие животные сотворены нормальным и приличным способом, в достаточной степени обнаруживают его невысокое мнение о женской природе; впоследствии это его, прямо сказать, женоненавистничество принимает еще более мрачный оттенок, когда он все несчастья и горести человеческого рода приписывает легковерной глупости и неуемному аппетиту его праматери" (См. Джеймс Джордж Фрэзер "Фольклор в Ветхом Завете" М. 1989 г., стр. 15).
Кстати, безусловный авторитет и выдающийся экзегет древнего мира Филон Александрийский, воспринимал рассказ о творении мира и человека, описанных в первых двух главах Бытия, как рассказ о двух разных историях. Онтологически разных! Например: "После этого он говорит, что "создал Господь Бог человека, взяв прах земной, и вдунул в лице его дыхание жизни" (Быт. 2:7). Со всей очевидностью и здесь Моисей указывает, что существует огромная разница между созданным теперь человеком и тем, что возник ранее по образу Божию. Ведь последний, созданный чувственным, уже участвует в качественности, составленный из души и тела, являясь мужчиной или женщиной, смертный по природе. Другой же – некий вид по образу Божию, или род, или печать, умопостигаемый, бестелесный, еще ни мужского, ни женского пола, по природе нетленный. Создание же чувственного и частного человека, говорит он, было составным, из земляной сущности и божественного духа. Ведь тело возникло, когда Создатель взял персть и придал ей форму человека, а душа – вовсе не от рожденного, но от Отца и Владыки всего. Ведь то, что Он вдохнул, было не чем иным, как божественным Духом, посланным от блаженной и благословенной природы, словно ее колония, в помощь нашему роду, чтобы он, хотя и смертный в видимой своей части, в невидимой обретал бы таким образом бессмертие. Поэтому и можно в собственном смысле сказать, что человек – смертной и бессмертной природы, пограничный и участвующий в обеих [природах], насколько это необходимо, и возник он одновременно смертным и бессмертным, смертным по своему телу, а бессмертным по своему разуму". Разумеется, противопоставляя две истории создания человека, Филон не противопоставляет их Создателя. В этой связи, представляется очень интересным евангельский фрагмент: "И приступили к Нему фарисеи и, искушая Его, говорили Ему: по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею? Он сказал им в ответ: не читали ли вы, что Сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает". (Мф. 19: 3–6)
В книге: "ГНОЗИС. Коллекция гностических переводов Дм. "Богомила" Алексеева", автор пишет (я выставляю скрины из книги):


У Алексеева речь идет о гностических текстах библиотеки Наг-Хаммади. Вообще, проблема гностиков и гностицизма в целом, требует отдельной статьи (или цикла статей). Тем более, что Маркион не только отвергал еврейский Танах, а считал Яхве "злым Богом" (а также карпократы, каиниты, богомилы, катары, альбигойцы и т.д.). Я сейчас не буду уходить в эту тему. "Представление о Боге (Эль, Элохим) как о Творце Вселенной является одним из самых устойчивых в мифологии древних народов сиропалестинского региона. В хеттском изложении ханаанейского мифа о Боге Бури упоминается d El-un-ni-ir-ša, что соответствует ханаанейскому ʼēlqūnȋ (ʼa)rsa «Бог (Эль. - И. Ш.) — создатель земли». Эта формула встречается в надписи хеттского царя Азитавадда из Каратепе (ок. 720 г. до н. э.) и финикийско-пунийской надписи из Великого Лептиса (KAI 129; II в. н. э.). В арамейском варианте она засвидетельствована в пальмирских надписях (ʼlq(w)nrc). В Библии Бог (Эль, Эль Всевышний) как творец небес и земли упомянут в книге Бытие (14:19); далее (Быт. 14:22) Он отождествляется с Яхве. Космогоническое предание Пятикнижия представляло собой соединение двух версий — жреческой ученой конструкции и народного мифологического повествования. Из последнего, однако, собственно космогоническая часть была исключена почти полностью в целях достижения идейного единства и логической последовательности, исключения повторений.
Сказанным общие северо-западносемитские, в конечном счете, «языческие» черты предания об Адаме не ограничиваются. Змей, обращаясь к Еве, говорит, что Адам и она, вкусив от древа познания добра и зла, уподобятся богам в отношении познания добра и зла (Быт. 3:5). Бог говорит об Адаме, отведавшем плода от древа познания добра и зла, что он станет, «как один из нас», т. е. богов (см. Быт. 3:22); предполагается, следовательно, присутствие в предании других богов, к которым Яхве обращает свою речь и о которых упоминает змей. Имея в виду политеистический характер иудейской религии до реформы Иосии, присутствие в предании таких мотивов можно признать вполне естественным; более сложно ответить на вопрос, почему они сохраняются в книге, являющейся манифестом воинствующего единобожия Яхве. Единственный возможный ответ на этот вопрос заключается, как нам кажется, в старинной формуле: «из песни слова не выкинешь». Перед этим оказывается бессильной любая редактура." (См. И.Ш. Шифман "Учение. Пятикнижие Моисеево").
Подытожу. Итак, мы имеем две версии происхождения (я о последовательности) мира и человека. Они, как минимум, противоречивы и имеют разные целеполагающие парадигмы. И, самое главное, остается открытым вопрос: "Почему редакторы Танаха оставили эти две версии"?





.png)