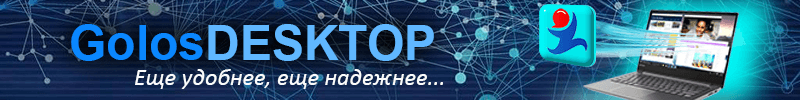Языческий синкретизм, сливший все многообразные формы религиозных учений и мистерий в едином порыве поисков Единого Божества, был эзотерической религией братств, оберегавших свои обряды от непосвященных. Но он выражался и более открыто в религии, победно охватившей древний мир перед окончательным торжеством христианства. Мы говорим о митраизме, культе Непобедимого Бога (Sol invictus), образом которого в видимом мире было солнце. За символом солнца скрывалось понятие о Едином Непознаваемом Божестве, а обряды митраизма вмещали все главнейшие образы и символы, обычные в религиозном миросозерцании эллинизма. Тут была и символика огня в смысле духовной сущности, и родственная ей идея воды, или влажного начала, и образ мистической Чаши, и глубокий образ проливаемой крови как символа одухотворения и возрождения. То был грандиозный опыт религиозного синкретизма, обвившийся вокруг древнего персидско-вавилонского культа божественного юноши, олицетворяющего Творческое Начало в мире и вечно свершающего таинственное заклание мистического быка.

СПРАВКА:
Слово «митраизм» происходит от имени божества Митры (Mithras). Буквальный перевод этого корня означает «договор», «соглашение» или «союз». В авестийском (древнеиранском) языке слово miθra означает «договор», «клятва». В ведийском санскрите слово mitra имеет значение «друг» или «дружба», что является одним из аспектов союза и связи. Буквально «митраизм» можно перевести как «(культ) договора» или «(религия) союза/дружбы».
Культ Митры был некогда национальной религией великой персидской монархии. Древнейшие религиозные предания Ирана сочетались с метафизическими созерцаниями магов в этом бодром, одухотворенном культе Светлого Божества, бога света и правды, имя которого призывалось при вступлении в бой за правое дело, а также во свидетельство произносимого обещания, ибо Митра считался хранителем данного слова. Последний атрибут характерен для миросозерцания древних персов, особенно высоко ценивших правдивость: как известно, греческие историки указывали на то, что у этих благородных отпрысков арийской расы юношей прежде всего учили «ездить верхом и говорить правду».
Митраизм, однако, никогда не был замкнутой национальной религией. Уже на заре истории он проник в Вавилон и затем широко распространился по всей Малой Азии. С падением Персидской монархии оборвалась последняя связь между Персией и религией Непобедимого Светлого божества, — и последняя двинулась вперед в мощном порыве. После походов Александра Македонского и осуществленного им слияния Эллады с Востоком Западная Азия пережила эпоху широкого религиозного синкретизма, аналогичного наступившему триста лет спустя синкретизму эллино-римского мира. В это время митраизм не только прочно укоренился в Малой Азии, но и воспринял здесь многие атрибуты местных культов, особенно тесно слившись с главнейшей малоазийской религией — культом Великой Матери и Атиса: образ прекрасного юноши-бога, орошающего мир своей кровью, оказался неразрывно сплетенным с юным Непобедимым богом света, вечно закаляющим мистическую жертву. В союзе с культом Атиса и под покровом его таинств митраизм разлился по всему древнему миру. Главным центром долго оставалась Малая Азия с Арменией и Месопотамией, в особенности же Каппадокия, Галатия, Понт. Часть этих областей вошла в состав монархии Митридата, и митраизм оказался там в роли воинствующей религии.
После падения монархии Митридата (имя производное от Митры) под ударами грозного Рима остатки понтийских полчищ укрепились в Киликии, ставшей на время и опорным пунктом митраизма. Киликийские мореходы и пираты, свободно бороздившие Средиземное море, занесли свою веру во все порты эллино-римского мира. Митраизм распространяли и многочисленные рабы, привозившиеся массами из Азии после победоносных войн Рима. Поход Помпея против киликийских пиратов, завершившийся полным их разгромом, способствовал окончательному рассеянию митраизма. Древние писатели, как напр. Плутарх, полагали, что именно с этого времени митраизм проник в Рим и прочно здесь утвердился. Со следующего века (І-го христианской эры) началось быстрое распространение римского владычества в глубь Малой Азии, на родине митраизма, и римские легионы окончательно сроднились с культом Непобедимого бога. Присоединение к империи при Тиверии Каппадокии, при Нероне части Понта, при Веспасиане Коммагены и Малой Армении приобщили к римскому миру главные центры митраизма. Когда же (с конца I века) начался постоянный прилив в Европу малоазийских легионов, стягиваемых к Дунаю для подкрепления пограничных гарнизонов, эти легионы принесли с собой культ Непобедимого бога и укрепили славу и обаяние его во всех пределах Римской Империи, преимущественно во всех расположениях римских войск. Всюду, где были лагеря воинских частей, — в Испании, в далекой Британии, на берегах Роны, Рейна, Дуная, — воздвигались святилища Митры, столь многочисленные, что остатки их пережили все катастрофы, сметавшие впоследствии с лица Европы остатки римской культуры, и доныне труд исследователей постоянно вознаграждается находкой уцелевших памятников митраического культа.

Митраизм был суровой религией, требовавшего от своих последователей духовной мощи, мужества в жизненной борьбе. Неудивительно, что этот культ, столь близкий воинскому духу римских легионов, быстро привлек к себе симпатии императоров и стал вскоре завоевывать себе положение полуофициальной религии. Император Коммод (180–192), сын Марка Аврелия, открыто принял посвящение в таинства Митры; к тому времени митраизм уже настолько глубоко проник во всеобщее религиозное миросозерцание, что мог считаться настоящей эзотерической религией эллино-римского мира. Таинства этой религии по-прежнему охранялись от профанов, но число «посвященных» все возрастало, а внешние обряды культа Непобедимого бога привлекали симпатии широких масс, еще не подпавших под обаяние христианского учения. Христианство являлось новой религией, принятие его знаменовало разрыв с дорогими традициями, со всем прежним мировоззрением. В расширенный же митраизм римского мира укладывалась не только вся мистика язычества в ее лучших и глубочайших проявлениях, но и все старые традиции, все местные верования и даже суеверия. Митраизм ничего не разрушал, а лишь объединял всё в стройном синтезе, над которым парил образ Высшего Непобедимого Бога, видимым отблеском или изображением которого было Солнце.
СПРАВКА:
Археологические находки (например, надписи в Дура-Европос и митреумы на границе Рейна) указывают, что культ Митры в Риме сформировался как уникальный синтез элементов: Персидских мотивов (идея космического порядка asha); Анатолийских ритуалов (культы Аттиса и Кибелы); Греческой космологии (планетарные символы в митреумах); Римского военного кодекса virtus. Ключевой трансформацией стало смещение акцента с персидского «хранителя договоров» на римского «Непобедимого Солнца» (Sol Invictus), что отразило эпоху кризиса III века, когда империя искала универсальный символ единства.
Во II и III вв. нашей эры то язычество, против которого христианство вело наступательную борьбу, было, в сущности, одним лишь митраизмом, безгранично расширенным и уже почти осуществившим мечту о мировой религии. В III-м веке нашей эры, перед окончательной победой христианства, этот расширенный митраизм был уже почти официально признанной государственной религией Рима, и римские императоры призывали имя Непобедимого Бога, бога воинств, хранителя римской державы, как некогда призывали его цари древней великой Персии. Во многих святилищах Митры найдены следы приношений и особых молитв за императоров. В Риме было уже много храмов и святилищ Митры, когда император Аврелиан в 270 г. воздвиг во имя Sol invictus лучший в Риме храм. В 307 г. Диоклетиан и его соправители, Галерий и Лициний, соорудили на Дунае (в Карнунте) святилище в честь Митры, «создателя их державы»; следы этого «mithraeum»'а сохранились доныне на Дунае и служат ярким свидетельством обаяния культа Митры еще накануне полного торжества христианства. Стоит отметить, что Диоклетиан и Галерий использовали митраизм как политический инструмент для укрепление лояльности армии в условиях распада традиционного политеизма.
Когда же затем победный разлив христианства был приостановлен при императоре Юлиане, то этот последний момент возрождения язычества был, в сущности, попыткой вернуть первенствующее значение смешанному, синкретическому культу на основе митраизма, в таинства которого сам Юлиан был посвящен.
Культ Митры был символическим выражением идеи о Непознаваемом Неизъяснимом Божестве. Изображения Митры, высеченные из камня в виде барельефов, хорошо изучены наукой благодаря тому, что значительное количество их уцелело в развалинах древних святилищ. По-видимому, такой барельеф помещался всегда в глубине святилища (имевшего вид пещеры, «spelaeum») как бы в виде иконы, перед которой горел неугасимый огонь. В этих изображениях прекрасный юноша-бог вонзает меч в шею поверженного им на землю быка; бык в предсмертной агонии тянется головой вверх и вправо, а его победитель отворачивает от его страданий свой строгий лик, часто носящий странное выражение скорби и тоски. Символизм митреума отражала такую космологию: ниша с рельефом «тауроктона» (убийство быка) символизировала акт творения, а семь ступеней посвящения соответствовали семи планетам. На Митре характерная шапка фригийского образца («pileus»), имевшая очень важное значение в символике митраизма. По мнению историков религии и археологии, таких как Франц Кюмон и Дэвид Уланси, смысл фригийской шапки (pileus или pileum) связан с символикой свободы (вольноотпущенничества).

В Древнем Риме pileus была шапкой, которую носили вольноотпущенники (освобожденные рабы) как видимый знак их нового статуса гражданина (libertas). В контексте митраизма эта шапка символизировала духовное освобождение от «скверны мира» и равенство для всех посвященных в культ Митры. Все они были «братьями» и считались «свободными», «равными» в глазах божества, независимо от их социального статуса вне митреума (храма). Сама форма шапки имитировала свод небес, подчёркивая роль Митры как посредника между высшим богом и людьми. Да и ещё, митраизм объединял через личное посвящение, а не этническую принадлежность.
Окрепшее христианство II и III вв., к своему изумлению, столкнулось с религией, вносившей в мир почти тождественные христианским формулы религиозного миросозерцания: те же идеи об искуплении мировой скверны кровью. Мистическую символику первобытной жертвы, неудержимо напоминающую образ «агнца, закаляемого от начала мира». Те же требования аскетизма, умерщвления плоти, те же мистические обряды крещения, таинственных начертаний, преломления хлеба… Церковные писатели, незнакомые с ритуалами древних таинств, не могли уразуметь причины такой общности мистических идей и образов. В митраизме посвященные участвовали в совместной ритуальной трапезе, где употребляли хлеб и вино (или воду). Ранние христианские апологеты, такие как Юстин Мученик (II век н.э.) утверждали, что это дьявольская имитация христианского причастия. В митраизме существовали обряды ритуального очищения водой или, по некоторым данным, кровью (тавроболий), которые рассматривались как формы «крещения» для смывания грехов и возрождения. Митраизм предлагал своим последователям путь к спасению души и вечной жизни. Обе религии проповедовали строгие моральные принципы. Имели четко выраженную иерархию (в митраизме — семь ступеней посвящения; в христианстве — священники, епископы и т.д.). Оба божества ассоциировались со светом. Рождество Христово (25 декабря) совпадает с римским праздником Непобедимого Солнца (Dies Natalis Solis Invicti). Не имея возможности утверждать, что митраизм все заимствовал у христианства, так как старшинство первого было слишком очевидно, они решили, что диавол, предвидя торжество ненавистного ему христианства, заранее составил пародию его и противовес в виде религии Митры. Пылкий Тертуллиан, особенно раздраженный сходством митраических таинств с христианскими, первый додумался до этого предположения: «Разумеется, дьяволом, дело которого — извращать истину, который даже самим священным таинствам подражает в идольских мистериях. И он сам крестит некоторых, — тех именно, кто верит в него и верен ему: он обещает взамен снятие грехов в этой купели. И если я ещё помню, Митра чертит там [т. е. в царстве дьявола] знаки на лбах своих воинов, празднует он и приношение хлеба, представляет образ воскресения и под мечом уносит венок». (см. Тертуллиан «О прескрипции против еретиков»).
Но у митраизмы были роковые недостатки, которыми христианство не обладало. Самым серьезным было то, что митраизм принимал в свои ряды исключительно мужчин. Женщины и дети не допускались в митреумы. Это автоматически исключало половину населения империи. Выше уже говорилось, что митраизм был популярен среди солдат, вольноотпущенников и чиновников. Современные исследования показывают, что исключение женщин из митраизма было не догмой, а следствием его социальной базы. Митреумы возникали при казармах, торговых гильдиях и императорских чиновничьих резиденциях — институтах, изначально мужских. В отличие от христианских домашних церквей, где женщины играли роль меценаток (например, Лидия в Афинах), митраические обряды требовали ритуального братства, сравнимого с воинскими клятвами (sacramentum). Тем не менее, находки феминизированных статуэток в митреумах Сирии (2019) предполагают существование женщин-адептов, которые могли участвовать в праздниках, но не в таинствах. Это ограничение стало роковым: когда христианство открыло доступ всем — от рабов до матрон, — митраизм остался религией «мужских клубов».
Культ не мог иметь широкой привлекательности для всех слоев населения, в отличие от христианства, которое обращалось сразу ко всем: богатым и бедным, рабам и свободным, мужчинам и женщинам. Будучи тайным культом, митраизм не имел единой, открытой доктрины и священных текстов. Все, что мы знаем о митраизме, основано на археологических находках. Каждый митреум (храм) был относительно независимым сообществом, что мешало координации и созданию единой религиозной сети, подобной христианской Церкви с её епископами, священниками и соборами. Христианство активно обращало новых людей в свою веру, стремясь заменить все другие культы. Митраизм же не был миссионерской религией.
P/S. После того как христианство стало доминирующей религией, а указы императора Феодосия I в конце IV века (в том числе Указ от 391 году, когда были запрещены публичные языческие культы в Риме) лишили языческие религии государственной поддержки, митраизм начал угасать. Тогда как государственная поддержка обеспечила христианству огромные ресурсы, финансирование, правовые привилегии и возможность использовать силу закона против сторонников митраизма. Окончательное исчезновение митраизма произошло, вероятно, к V веку или даже позже в некоторых отдаленных регионах, по мере укрепления позиций христианства по всей империи.
по книге Юрий Николаев "В поисках Божества" (с добавлением современных историко-археологических данных)