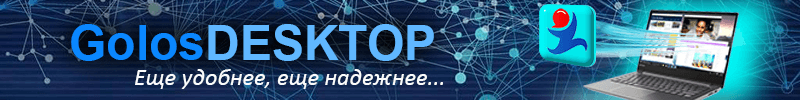Макс Вебер писал, что именно монотеизму принадлежит заслуга "расколдовывания мира". Монотеизм превратил природу в "мастерскую" для наших творческих амбиций. В поле рационально-теоретической (научной) практики, и, как следствие, привел к культу потребления (за исключением того потраченного времени, которое сводится к взаимоуничтожению). Сегодня довольно широкое распространение получает точка зрения, согласно которой именно христианское отношение к природе, как к объекту господства со стороны человека, лежит в основе как новоевропейской науки, так и выросшей на ее базе современной техногенно-потребительской цивилизации.
Однако известно, что языческое искусство землемерия дало геометрию, из искусства счета - родилась арифметика, из повседневной механики – математическая механика и т.д. В действительности, процесс абстрактно-категориального освоения Универсума являлся переживанием данного в непосредственно-мифической целесообразности мира. Для мифологического сознания, бытие чувственно воспринимаемого мира не столь очевидно как это может показаться. Следовательно, его исток вне мира, но и в мире тоже. Со временем, философско-религиозное, а затем научное сознание, взялось за изучение того, что само по себе неочевидно.
Научное знание имеет свои собственные начало и традиции (от античности она наследует, по меньшей мере, три из них — аристотелевскую, атомистическую, идущую от Левкиппа и Демокрита, и математическую, идущую от Пифагора и Архимеда). Со временем, эти знания меняются, при этом оставаясь наукой, т.е. рациональным познанием. Так, например, для Платона ("Тимей") элементарной частицей (первичная матрица) является не материя, а математическая форма. Для Левкиппа и Демокрита, таковой оказался "атом". Для Пифагора элементарной частицей является число ("все вещи суть числа"), тогда как в современной квантовой механике элементарной частицей признается математическая форма, правда гораздо более сложной и абстрактной природы. Современная наука унаследовала от монотеизма ключевую установку: мир един, упорядочен и познаваем — потому что он творение единого Разума". Эта парадигма возникает еще в античной Греции, и окончательное оформление ее выпало на долю Аристотеля. И хотя аристотелевская космология не упраздняла политеизм, а переводила богов в ранг космических сил — этот шаг, подготовил почву для последующего монотеистического синтеза. Понятно, что аристотелевская модель Земли устарела в космологии, но её идеализация до сих пор сохраняется в прикладных дисциплинах — не как истина, а как инструмент, схема, модель.
T. Кун отмечает: "Вопрос об истинности такого рода схемы-модели имеет отношение не к ее предсказательным и логическим возможностям, а к психологическим проблемам веры или неверия в нее ученых". В "Структуре научных революций" он пишет: "Предпочтение одной парадигмы другой — вопрос не доказательств, а веры в её потенциал". Опыт, как верно было отмечено Кантом, дает нам представление о свойствах тех или иных вещей, но при этом не говорит о невозможности чего-либо иного. Так, например, при рождении идеи движения при отсутствии сопротивления воздуха (которая стала ключом к принципу инерции), Галилея интересовало: не почему движутся предметы, но как они движутся. Как пишет И. Барбур – Галилей с удовольствием описывал развитие явлений, но полностью игнорировал вопросы о целях (целевые причины), достижению которых они служат, и считал, что эти вопросы не относятся к привлекающим его внимание проблемам. Со временем, представление об Универсуме сменилось картиной его бесконечности, «сперва в форме идеализации величин, мер, чисел, фигур, прямых, полюсов, плоскостей», а затем и математизацией природы (Галилей). Как известно, прямолинейного движения в природе не существует, однако для Галилея оно было необходимым как математическая идеализация, искусственное воспроизведение естественного явления за счет устранения побочных влияний т.е. воздействия внешних сил". Долгая история преднауки и самой науки, являет молчаливое свидетельство этой титанической работы человеческого интеллекта и духа, понять и объяснить человеческим, земным языком – неземное… небесное ("небесная механика"). Как там всё устроено.
Затем монотеизм как временный, в содержательном отношении, "протез" был выброшен. Бог "белых пятен" стал не нужен, поскольку их становится все меньше. Но вместе с этим пало и представление об аксиологичности мира. В монотеизме для человека, жизнь и творчество это не просто калейдоскопом "вчера-сегодня-завтра". Мир и человек имеет ценность и смысл в Вечности. Демаркационная линия пролегла по линии противостояния "человека разумного" и забвения "человека морального".
Логосность или разумно-структурированная гармония бытия (вера в рациональность и познаваемость мира) "…которую пытается познать наука, открывается в конце концов в чем-то схожем с путями духовного познания: она открывается в ответ на изначальное доверие человека". Наука базируется на предположении, что мир упорядочен и может быть описан математически. Мы принимаем эти математические структуры за объективную реальность. Гейзенберг утверждает, что сама по себе наука не может доказать или обосновать это фундаментальное предположение. Оно является, по сути, актом веры или доверия. Гейзенберг признает, что лишь теологической может быть основа для нашей уверенности в том, что математические структуры, принимаемые нами за законы природы, онтологичны. "Религия, поэтому пишет он, - не просто фундамент этики, она есть прежде всего основа для доверия. Возникает доверие к миру, вера в осмысленность нашего пребывания в нем". Гейзенберг указывает на то, что даже самая строгая наука покоится на фундаментальном акте веры в рациональность Вселенной. Эту веру, дающую уверенность и доверие к миру, он называет "теологической" основой, подчеркивая ее глубинный, иррациональный в научном смысле, характер. А. Эйнштейн прямо говорит: "Я не могу найти слова лучше, чем "религия", для обозначения веры в рациональную природу реальности". Он имел в виду, что его глубокая убежденность в упорядоченности и познаваемости Вселенной носит характер, схожий с религиозным чувством благоговения и веры. Разумеется без привязки к религиозным представлениям о Боге как личности.
Эйнштейн был убежден, что Вселенная не хаотична, а подчиняется строгим, логичным законам, которые можно понять с помощью разума и науки. Это базовое допущение, без которого, по его мнению, научная деятельность была бы невозможна. Он считал, что наука — это "попытка достичь чуда рациональности, явленного в мире". Эйнштейн использовал слово "религия" в нетрадиционном смысле. Для него это было чувство глубочайшего восхищения, трепета и смирения перед грандиозным, непостижимым разумом, проявляющимся в законах природы. Он называл это "космическим религиозным чувством". По его мнению, именно это глубокое, почти религиозное чувство веры в рациональную структуру мира вдохновляет и поддерживает ученого в его поиске истины. Вообщем, как пишет в "Физике и философии" Гейзенберг: "Наука предполагает, что Бог не играет в кости".
Отмечу важное разделение позиций Эйнштейна и Гейзенберга. Эйнштейн говорил о "космическом религиозном чувстве" как о восхищении гармонией, отвергая идею личного Бога (письмо Эриху Гуткинду, 1954). Гейзенберг, напротив, видел связь квантовой неопределённости с христианским понятием творения (лекции в Гарварде, 1959 г.). Эйнштейн отождествлял веру в рациональность мира с "космическим благоговением", лишённую религиозных догм. Гейзенберг же в диалоге с П. Тиллихом (1961) допускал, что квантовая механика оставляет место для акта творческой свободы — не в научном, но в метафизическом смысле. Однако, будучи верующим лютеранином Гейзенберг видел глубокую связь между физикой, философией и религией, но он не утверждал напрямую, что принцип неопределенности является доказательством или прямым следствием идеи христианского творения мира. Гейзенберг считал, что открытия квантовой физики (включая неопределенность и дуализм волна-частица) показали несостоятельность чисто материалистического мировоззрения XIX века (демокритовского атомизма). Он утверждал, что фундаментальными строительными блоками реальности являются не твердые частицы, а абстрактные математические формы или потенциальности, что, по его мнению, было ближе к идеализму Платона и Пифагора. Он полагал, что современная физика оставляет место для духовного или "идеального" мира и вполне совместима с религиозной верой, в том числе с христианством. Неопределенность указывала на пределы механистического детерминизма, что открывало возможность для представлений о свободе или божественном вмешательстве.
Конечно, все это не так просто, но основная человеческая потребность в творческом исследовании и познании окружающего мира вполне находит удовлетворение для своей реализации в науке. По остроумному замечанию Хосе Ортега -и- Гассета – Богу познавать не нужно поскольку Он и так все знает, животным тоже не нужно, в силу естественных биологических причин, следовательно, процессы и методы познавания вполне оставлены за человеком.
Сейчас, в XXI веке, трудно предположить, что какая-то отдельно взятая культурная сфера самочинно возьмет на себя интегрирующую роль в общечеловеческой эволюции. Философия уже не может убедить, что является "царицей наук" и "истиной". Религия, не претендует на "кесарево" озабочена тем, чтобы сохранить хоть какой-то "отпечаток" Божий в ещё пока людях. Наука, не претендуя на мировоззренческого знаменосца (как это было в XVII - XVIII веках), наращивает "бицепсы", с опаской поглядывая на властолюбивых политиканов от бизнеса. Набирающий силу оккультизм, магия, неоязычество и всякого рода духовное мошенничество, также не сможет интегрировать культуру. Если серьёзно, то оккультизм - это реакция на кризис трансцендентного в науке. Рост интереса к оккультизму отражает не просто "деградацию" (у неё множество и других причин), а глубокую потребность в целостности, которую сегодня не удовлетворяют ни редукционизм науки, ни формализм институциональной религии. Проф. Доброхотов прав, когда говорил нам на лекциях - дело в том, что эта очевидная мудрость объективной истории, порождена обстоятельствами, чем нашим личностным ростом. Дело за тем, чтобы этот негативный опыт превратить в позитивный. В конце концов, осмыслить и понять может только человек.
На мой взгляд, интересным представляется наличие предельной точки «неизвестного», как в науке, так и в религии: "и богословие и наука оставляют многие важные вопросы далекими от полного разрешения. И там и там бывают ситуации, когда мы сталкиваемся с вопросами, на которые не можем ответить. Многие из этих вопросов связаны с тайной человеческой личности. Мы не должны быть удивлены, обнаружив, что божественная природа выше нашего понимания. Признать эти ограничения — не значит отказаться от задачи, просто надо быть реалистами и не ожидать слишком больших успехов" (Д. Полкинхор).
Я думаю "когнитивное поле" для диалога есть, а именно: отношение взаимопосредования или, если угодно, отношение симфонии (при этом у каждого своя "поляна" сохраняется), в борьбе за человека, против надвигающихся мутных волн оккультизма, магии, фэнтези и духовной деградации! Христианская теология, сказавшая о том, что тварный мир – настоящий, живой и потому драгоценный в глазах Бога, что хотела этим сказать? Человек не просто "прямоходящее орудие труда", а имеет смысл и цель в этом созданном для него мире. Наука же, когда теология забыв о смысле Пришествия Христа, (превратила человека в "навоз и удобрение" для своих корпоративных хотелок), напомнила миру об извечной ценности и данном Богом творческом порыве духа человеческого в познании себя и окружающего мира – говорят на одном, понятном для здравого смысла языке. Это то, что может строить мосты между ними, а не сжигать их.
Сегодня такие мосты уже есть: Ватиканская обсерватория, одно из старейших астрономических учреждений в мире, объединяет астрономов-католиков и агностиков в изучении тёмной материи. Проект "Теология и наука" в Оксфорде анализирует, как квантовая механика и современная космология, могут влиять на традиционные теологические понятия, такие как "творение". Квантовая неопределенность и идея возникновения Вселенной из вакуума (Большой взрыв, теория которого была впервые предложена католическим священником и физиком Жоржем Леметром) часто используются в этих дискуссиях для переосмысления представлений о причинности, детерминизме и роли Творца.
В наступившую эпоху постмодернистского скепсиса вопрос о «вере в разум» максимально критичен. Современный кризис «веры в разум» — не просто интеллектуальная дискуссия, а культурный симптом распада общих смыслов. Постмодернизм, деконструируя эпоху Просвещения, поставил под сомнение саму возможность объективного знания. Сегодня многие слышат: "Наука — это мнение, как и религия". Постмодернистский скепсис, доведённый до абсолюта, разъедает почву для критического мышления. А ведь критическое мышление и проложило путь от язычества к монотеизму. В эпоху "альтернативных фактов" и "эпистемических пузырей" (соцсети) даже базовые истины становятся предметом идентичности, а не разума. Мы уже в эпохе постправды c её "альтернативными фактами" в перемешку с доморощенным "отрицательным ростом". Не мир, а когнитивный глюк! Сегодня даже фундаментальные, научно доказанные истины могут быть отвергнуты не на основе контраргументов, а просто потому, что они не вписываются в групповую идентичность или эмоционально неприемлемы для людей (фильм "Не смотри на вверх"). И это самый опасный Вызов!
Диалог между религией и наукой возможен не потому, что религия и наука — одно, а потому, что обе служат одному: человеку, ищущему смысл в разумном мире. Наука без религии рискует стать инструментом контроля (как в антиутопиях Оруэлла), религия без науки — уйти в иррационализм (мистицизм, фанатизм).
Поставлю вопрос ещё конкретней: "Могут ли они быть партнёрами, а не врагами"? Мой ответ — да, но только при условии чёткого разделения их "сфер ответственности" и общего признания человеческого достоинства. Конфликты возникают тогда, когда одна сторона нарушает принципы автономии. Их нужно чётко сохранять. Наука даёт технические решения, а религия и философия задают пределы допустимого. В конце концов, вопрос о диалоге - это вопрос о человеческом выживание. В решении этого вопроса — ключ к нашему общему будущему!