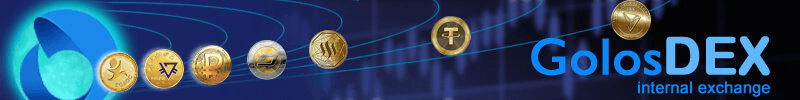В продолжении: "От святости до "сосуда греха": Как на самом деле менялось отношение к женщинам в христианской Церкви? Ч.1"
"Иисус сказал им в ответ: чада века сего женятся и выходят замуж; а сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мёртвых ни женятся, ни замуж не выходят, и умереть уже не могут, ибо они равны Ангелам и суть сыны Божии, будучи сынами воскресения" (Лк. 20:35–36).

В первых главах нашего цикла мы видели женщин-пророчиц, мучениц и равноапостольных служительниц. Но к IV веку церковная жизнь начала меняться. У этих изменений были свои объективные причины.
Как известно, ранее христианство было эсхатологическим религиозным сообществом. Однако, когда сроки начали затягиваться, возникли объяснения: "У Господа один день, как тысяча лет" (2 Петр. 3:8), где задержка объяснялась тем, что Бог дает время большему количеству людей покаяться. А также появилось убеждение, что конец не наступит, пока Евангелие не будет проповедано "всем народам" (Мф. 24:14). Это убеждение превратило ожидание в активную миссионерскую деятельность.
Что ещё очень важно? Ожидание конца времён завтра не требует строительства фундаментальных зданий или жёсткой иерархии. Но по мере "задержки" Церковь начала превращаться в стабильный институт. Церковь стала воспринимать себя "ковчегом", в котором нужно плыть долго. И потом, даже если Парусия задерживается — Христос уже победил смерть. Даже если мир не кончается — Царствие Божие уже внутри вас (Лк 17:21). Церковь внутренне стала "новым небом и новой землёй". Вечеря Господня — не просто воспоминание, а причастие к будущему пиру в Царствии ("до тех пор, пока Он не придет" — 1 Кор. 11:26). Община, где "не было никому нужды" (Деян. 4:34), где "любовь покрывает множество грехов" (1 Пет. 4:8), — уже была прообразом грядущего мира. Таким образом, христианству (без потери эсхатологического ядра) удалось перенаправить энергию ожидания фатального конца в энергию строительства новой цивилизации. Поскольку христианство больше, чем пророчество о конце. Оно пророчество о Любви, которая побеждает конец.
Когда христианство вышло за пределы маленьких групп, оно столкнулось с Римской империей. В Риме женщина была "вечно несовершеннолетней" (находящаяся под опекой отца, а потом мужа), тогда как в раннем христианстве была очень интересная аскетическая духовная утопия. Это была дерзновенная попытка построить "Царство Божие" на земле, не дожидаясь смерти, где "не женятся и не выходят замуж, но пребывают как Ангелы Божии". Я говорю об обычае, который современному человеку покажется невероятным, — subintroductae (введенные сестры).
В ранней Церкви существовала практика синейсактизма (от древнегреческого συνείσακτος — "представленный вместе") — совместного проживания мужчины (клирика или аскета) и девы-аскетки под одной крышей, но без плотской близости. Это был своеобразный "духовный брак", как вызов природе человека. В одном доме, в повседневной близости, они делили быт, молитву и трапезу, оставаясь друг для друга "братом" и "сестрой". Каждый день такой совместной жизни был триумфом духа над плотью. Они верили, что если Христос воскрес, то и человек уже сейчас может начать жить "ангельской жизнью", где пол не имеет значения.
Первые христиане не придумывали ничего нового — они лишь подражали Христу. Мы помним из Евангелий, с каким восторгом и преданностью женщины следовали за Спасителем, отдавая Ему все сокровища своей души.
Этот идеал "чистого братства" перекочевал в общины апостольского века. Даже в посланиях Апостола Павла (1 Кор. 7:36–38; 9:5) исследователи находят указания на существование таких союзов. Это был расцвет I–II веков: время, когда Церковь жила "бесплотной мечтой", а братские собрания были наполнены теплом и светом, которых мир еще не видел.
У этого обычая была ещё и глубоко практическая, милосердная сторона. В античном мире женщина вне семьи была абсолютно беззащитна. Девушка-христианка, отказавшаяся от брака с язычником, становилась изгоем в своем доме. Уходя из-под власти отца-язычника, она находила приют в доме духовного брата. Здесь христианство впервые явило миру тип отношений, построенных не на "праве владения" женщиной, а на свободном самоотвержении. Христианская Марфа заботилась о быте брата-аскета, а он становился её щитом в жестоком мире. Это был прообраз новой семьи, скрепленной не кровью, а духом Христовым. Для женщины-христианки того времени это стало возможностью служить Богу через служение конкретному человеку, не становясь при этом "домашней рабыней". Это был союз двух личностей, устремленных к одной прекрасной цели — святости. Цель казалась благородной: доказать победу духа над плотью и оказывать друг другу взаимную поддержку в повседневном быту и горячей молитве.
"В этих обычаях христианство впервые явило миру пример повседневного применения женского самоотвержения, жажды подвига, так часто сочетающейся в женской психологии с кроткой преданностью одному избраннику. То было проявление такой глубины проникновения в человеческую душу, рядом с которой особенно ярко выступает все убожество нашей современной жизни с ее условностями, с ее тесными рамками приличий и «здравого смысла». Чистый порыв религиозного восторга создавал условия жизни, при которых дух высоко и вольно парил над всякой житейской скверной". («В поисках за божеством. Очерки из истории гностицизма» Юлии Николаевны Данзас (1879–1942), изданная под псевдонимом Юрий Николаев издательством «Академический проект» в 2025 году)
Однако то, что задумывалось как триумф воли, на деле стало источником бесконечных соблазнов и подозрений. Женщина из "соратницы по духу" стала превращаться в глазах общины в "повод к падению". То, что для святых было "вольным парением духа", для обычных людей стало поводом к падению или, что еще хуже, к великому соблазну. Не каждый мог удержаться на этой высоте. То, что было под силу святым первого века, стало непосильной ношей для многих в IV веке. Общий упадок нравов привел к тому, что "духовные союзы" стали превращаться в ширму для обычного сожительства. Появились слухи, скандалы и соблазны. Именно поэтому пастыри Церкви, видя, как этот высокий идеал превращается в источник сплетен и духовных искушений, начали возводить стены запретов.

Первые звоночки прозвучали на поместных соборах:
Эльвирский собор (ок. 303–306 гг., Запад): В Испании одними из первых строго ограничили круг женщин, имеющих право жить в доме клирика. Допускались лишь близкие родственницы (мать, сестра, дочь-девственница), чтобы избежать тени подозрения.
Анкирский собор (314 г., Восток): 19-е правило этого собора прямо запрещало девам жить с мужчинами как с "братьями". Собор констатировал: человеческая немощь сильнее благих намерений, и такие связи вредят репутации Церкви.
Точку в этом вопросе поставил Первый Вселенский собор в Никее. Его 3-е правило стало фундаментальным:
"Великий собор решительно запрещает епископу, пресвитеру, диакону и вообще всякому из клира иметь в доме введенную женщину (subintroductae), кроме матери, сестры, тетки или тех только лиц, которые чужды всякого подозрения".
Это постановление юридически закрепило дистанцию между священством и женским миром. Отныне женщина в доме духовного лица рассматривалась прежде всего через призму возможного соблазна.
Позже святитель Иоанн Златоуст обрушил на этот обычай не только всю мощь своего красноречия, но и посвятил этой теме целые трактаты ("Против живущих с девами"). Его речи были грозными и обличительными. Он называл этот обычай "бесовской уловкой" и "огнем под боком". Златоуст подчеркивал, что даже если греха нет фактически, сам вид женщины в доме аскета губит души верующих, рождая пересуды. Его фраза: "Из всех диких животных самое опасное - это женщина...", — хрестоматийна.
Однако история не заканчивается в один день. Обычай subintroductae не исчез мгновенно после запретов Никейского собора. Он тлел, превращаясь из высокого идеала в "муть скрытого греха" и ложась темным пятном на быт духовенства вплоть до V и VI веков. И именно эта затянувшаяся борьба породила мощнейшую реакцию — системное вытеснение женщины из церковной жизни.
Реакция против "духовных сестер" ударила по всем женщинам без разбора. Даже древний институт диаконисс начал стремительно угасать. Теперь им позволялось лишь обслуживать женщин в те моменты, когда "болезненная христианская стыдливость" не допускала присутствия мужчины (например, при раздевании для крещения). Лаодикийский собор (346 г., правило 44-е) вынес окончательный вердикт: женщинам запрещено даже входить в алтарь. То, что раньше было сослужением, стало восприниматься едва ли не как осквернение. Само звание диакониссы лишилось своего главного смысла — рукоположения (хиротонии), превратившись в пустой звук и ненужный пережиток старины.
Из общественной и литургической жизни женщина была фактически вычеркнута. Лишь в монашестве, в тишине келий и суровости пустынь, за женщиной оставили право на полноправный духовный подвиг. Только там над ней еще мерцал былой ореол святости и равночестности. Но в новом общественном строе, который христианство возводило на руинах античности, места для женщины-лидера, женщины-соратницы больше не нашлось.
Так закончился великий эксперимент раннего христианства. От восторженных последовательниц Христа, через "духовных супруг", парящих над плотью к полному подчинению и молчанию. Женщина оказалась в приниженном положении на долгие века...
Победил здравый смысл и строгая дисциплина. Церковь возвела стены между полами, чтобы уберечь паству от соблазна. Церковь стала большой государственной структурой, где порядок и репутация стали важнее индивидуальных духовных подвигов. Идеал ангелоподобной жизни привел к тому, что женственность стала восприниматься как досадная помеха на пути к спасению. Каноны IV века сформировали ту модель отношения к женщине, которую мы видим в консервативной среде и по сей день.
То, что начиналось как светлая мечта об "ангельской жизни" на земле, со временем превратилось в испытание, которое человечество не выдержало. Былая чистота бесплотного союза к IV веку стала казаться циничному миру — и даже самой Церкви — опасным и порой "уродливым пятном", которое приходилось выжигать каноническим огнем.
Огрубевший мир, наполненный человеческими слабостями, больше не мог вместить в себя столь высокую идею. То, что было доступно первым христианам в моменты их мистического восторга, стало непосильной ношей для многотысячной государственной Церкви. Идеал subintroductae отпал, уступив место строгим правилам и запретам Никейского и других соборов.
От святости до "сосуда греха" — был путём проложенным не из ненависти к женщине, а из страха перед человеческой слабостью. История отношения к женщине в Церкви — это не история угнетения, а сложный процесс поиска баланса между высоким идеалом и суровой реальностью человеческой природы. Понимая корни этих запретов, мы можем лучше понять и современное состояние церковной традиции.
Однако воспоминание об этом обычае, если очистить его от поздних инфернальных укоризн, остается величайшим свидетельством того, на какой подъем духа было способно раннее христианство. Это был порыв, на краткий миг разорвавший оковы плоти. Это была попытка человеческого духа взлететь так высоко, чтобы преграды между полами и материей исчезли в свете Божества. Это был момент сверхъестественного подъема, который человечество пережило лишь однажды в своей истории.
Пусть этот миг сменился веками строгой дисциплины, а порой и откровенной пошлости. Пусть светлая мечта погасла в тумане забвения. Но наш сегодняшний мир — тусклый и оскудевший — до сих пор живет с "бессознательным пережитком" того прошлого в древнем христианском отголоске "дорогие братья и сёстра"...
Подобно тому как остывшая планета, продолжая свое бездушное круговращение в космосе, всё еще хранит внутри тепло былого стихийного горения, так и наша апостасийная современная культура до сих пор питается отголосками того древнего, чистого и яростного стремления древних христиан к святости. Именно то "хаотическое горение" духа первых веков создало из христианства небесное светило, свет которого доходит до нас даже сквозь толщу двух тысячелетий.
P/S.
На фоне того, как формирующаяся христианская Церковь ограничивала роль женщин, мне вспоминается история дочери Плутарха Афинского (не путать с более ранним Плутархом из Херонеи) Асклепигении (430–485 н. э.). Она менее известная, но не менее важная фигура для понимания нашей темы. У меня есть одна увлекательная гипотеза.
В то время как мужчины-философы уходили в сухую теорию и диалектические рассуждения, Асклепигения хранила живую традицию языческого мистического опыта своего отца. Он не доверял это тайное знание никому, даже своим коллегам по Академии. Эти знания он унаследовал от своего отца Нестория Великого. Она не просто "занимала кафедру" в унаследованной от отца школе, а была передатчицей живого духа, без которой мужская мысль заходила в тупик.
Что очень важно? Именно она была учителем великого философа Прокла Диадоха — "последнего титана" неоплатонизма. Когда Прокл достиг вершин в изучении философии Платона и Аристотеля под руководством Сириана, он привел его к Асклепигении. Именно она и посвятила Прокла в высшие тайны "искусства богообщения". Неоплатоники называли это иератическим искусством. Она же обучила его теургическим практикам, которые считались вершиной философского постижения бытия. Причем, это были не просто теоретические рассуждения о божественном, а практический метод достижения единения с божественным. Поскольку истинная цель философии — это спасение и обожествление души (theosis в языческом понимании), она то и достигалась через теургию ("богоделание"), ключи от которых хранились в руках Асклепигении.

А если мы учтём колоссальное влияние на христианскую доктрину неоплатонизма (А. Г. Дунаев — российский патролог, переводчик, специалист по истории религии, искусствовед и литературовед самым тщательным образом прослеживает это влияние как на паламитский исихазм, так и на Парижскую школу), то роль Асклепигении на философское мировоззрение Прокла, а от него на христианское учение об обожении, представляется архиважной! Если Прокл — "интеллектуальный отец" Псевдо-Дионисия Ареопагита, то Асклепигения — их "духовная бабка". Связь с паламитским исихазмом, которую под "микроскопом" прослеживает Дунаев, идет именно через Ареопагитики. Что имеем на выходе:
Исихазм (Григорий Палама) заимствует у Дионисия структуру восхождения души и различие между сущностью и энергиями Бога.
Парижская школа (Лосский, Мейендорф) в XX веке возродила этот неоплатонический пласт (апофатика, сущность-энергия) как ядро православия.
А в фундаменте этой огромной мистической традиции лежит тот самый сокровенный опыт, который великая Асклепигения сохранила в своей "живой традиции", когда мужчины-философы ушли в сухую схоластику.
Забавно, не правда ли? Христианский фундамент самого глубоко-мистического учения об обожении латентно обязан женскому хранению мистических тайн в Афинской академии!
Разумеется, Алексей Георгиевич Дунаев, как строгий ученый, не может себе позволить гипотезы, которые могу я. Он отслеживает эту логическую цепь фокусируясь на текстологических доказательствах влияния Прокла, а шире неоплатоников, на "Ареопагитики" и последующий исихазм. Разумеется, в научном мире есть сторонники того, что корпус сочинений Псевдо-Дионисия Ареопагита является "христианизированным неоплатонизмом". Они прослеживают, как целые концепции и термины (например, иерархия, триадичность, свет) заимствованы напрямую у Прокла. В своих академических статьях по истории исихазма они убедительно показывают, что понимание таинств как "священнодействия", возводящего к Богу, восходит к неоплатонической теургии.
Я же просто иду глубже... продлевая филологическую линию Дунаева до её исторического истока. Если Прокл получил эти "технологии" от Асклепигении, то она и есть первоисточник того самого практического метода, который христианство позже адаптировало под свои специфические нужды. Даже если христианские мужи ничего о ней и не знали. В истории и не такое бывает. Не стоит забывать, что идеи имеют свою собственную судьбу, часто забывая имена своих матерей.
Прокл мог получить "божественный опыт" только в Афинской школе и только от Асклепигении. Что и подтверждается единственным дошедшем до нас жизнеописании Прокла под названием: "Прокл, или О счастье", написанным его учеником Марином Неаполитанским в V веке. Марин пишет, что Асклепигения стала той, кто посвятил Прокла в "великие таинства" и обучила его методам практического воздействия на божественные силы (теургии).
«...она одна только еще хранила переданные ей отцом [Плутархом] наставления в великих таинствах и во всей теургической дисциплине. Наш Прокл, часто посещая ее и слушая ее наставления, в короткое время настолько преуспел, что мог уже призывать богов...» [Марин, «Прокл», 28].
Без этого теургического обучения Прокл остался бы просто выдающимся логиком, а не "божественным" мистиком, чьи идеи позже легли в основу христианского учения об обожении. Марин Неаполитанский фактически зафиксировал исторический факт: высшая ступень античной мудрости в V веке находилась в женских руках!
Как бы то ни было, ирония истории в том, что неоплатонизм (враг христианства) до самого конца сохранял верность принципу равенства душ, в то время как Церковь, провозгласившая этот принцип устами Павла, начала его последовательно ограничивать.
Когда христианство боролось за выживание (I–II вв.), оно опиралось на женщин-пророчиц, учителей и диаконисс (В епитафии Амфилохии (IV в., Каппадокия) она названа "диакониссой и учительницей" — прямо как Фекла!). Но когда оно окончательно победило (IV–V вв.), образованная и влиятельная женщина-философ начала восприниматься новой иерархией как угроза.
Хрестоматийный пример — Ипатия Александрийская. Она была не просто учителем, а живым символом античной мудрости, преподавая астрономию, математику и философию. Её авторитет был беспрецедентен: среди её учеников были высшие чиновники и даже будущие епископы (как Синезий Киренский), а политики искали её совета в государственных делах.
Её жестокое растерзание в 415 году толпой фанатиков — это не просто убийство ученого. Это была кровавая точка в споре между тем самым "мистическим равноправием", о котором говорилось выше, и новой "институциональной системой". Ипатия оказалась слишком свободной и слишком авторитетной для системы, которая начала мерить святость степенью подчинения.
Победившее христианство, стремясь к порядку и жесткой структуре, решило, что право на учительство — это исключительно мужская привилегия.
Трагедия в том, что Церковь в определенный момент словно забыла слова апостола Павла о равенстве и испугалась той интеллектуальной мощи, которую античность веками пестовала в своих школах. Вместе с Ипатией погибла уникальная эпоха, в которой разум и дух не имели гендера.
Христианство вступило в новый мир победителем, но эта победа изменила и само христианство...