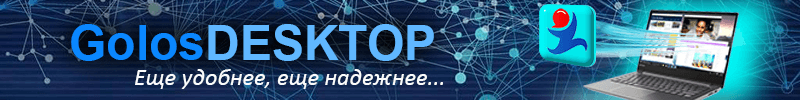23.
Мать лежала среди луга, со сломанной страшной ногою, и пыталась понять, доживёт ли она до утра? Боль змеёю ползла от ноги до уставшего сердца,- и оно замирало, и вновь начинало стучать…
А телёнок толкался в неё замусоленной мордой, но у матери не было сил отогнать его прочь… Это он, стосковавшийся за день по вкусному пойлу, побежал ей навстречу, с разбегу ведро опрокинул, и натянутой толстой верёвкой хозяйку свалил, - и со всей молодою, голодной, играющей силой по траве отсыревшей, как лёгкий мешок, протащил!
И вот теперь, едва придя в себя, она завыла даже не от боли, а от бессилья всё вернуть назад… «Ну, что же это сталось, Боже мой, - и что же, что же делать в горькой ночке?»
Чудовищная боль впилась клещами и отпускать ничуть не торопилась, лишь только обморок секундным облегченьем то приходил, то отходил опять… Всего опасней был дурной телёнок: он тыкал мордой в грудь, в живот, в лицо, - и в сантиметрах от ноги топтался!.. Нет, нет, уже надежды не осталось: через неё он двинулся к ведру, валявшемуся у другого бока… Закрыв лицо руками, мать придержала стон, чтоб вытолкнуть его в последний миг, - и вдруг над самым ухом услыхала собачий лай, свирепый жаркий лай!
Телок, едва коснувшийся копытом больной ноги,- как вкопанный застыл! И – отступил под натиском собаки! И побежал, - но мать уже успела верёвку вынуть из-под ног своих!
Откинувшись на влажную траву, она впервые глубоко вздохнула - и поняла, что будет, будет жить… Собака лизала ей лицо, глаза и щёки, и мать нисколько не мешала ей, и слёзы благодарные текли… Так постепенно, не тревожа ногу, она и облегченье испытала, и даже стала думать, вспоминать…
Сколько бессонных и тревожных ночей провела она за всю свою жизнь! В бесчисленном количестве этих ночей, несомненно, было что-то общее, что делало их похожими друг на друга, но всё же в каждой бессонной ночи было и что-то особенное, неповторимое, что заставляло помнить почти о каждой из них где-то там, в глубине неисчерпаемой памяти…
Но эта печальная ночь, увеличив общее число материнских тревог, по всем признакам оказалась особенной, можно сказать, итоговой, вызвавшей в памяти «киноленту» видений всей её жизни. Нет, видения не были последовательными, как когда-то события в жизни, а возникали произвольно из разных времён её бытия, иногда повторяясь, иногда, промелькнув, исчезая навсегда…
Чаще других выплывал из памяти образ отца Валерика,- русого, голубоглазого, одичавшего на чужбине мужчины. Если бы не он, возможно, многое в её жизни было бы иначе. Хотя знакомы они были всего лишь несколько дней.
…Пересыльный лагерь жил лихорадочной, развратной жизнью. В этой жизни перемешалось всё: и радость возвращения на Родину, и безнаказанность «разгуляя» и даже преступлений, и надежда на обновление жизни. И какая-то безоглядность, безотчётность в поступках людей, спустивших тормоза после долгих месяцев и даже лет мучений и гнёта – физического и духовного…
Он преследовал её несколько дней, лихорадочно блестя глазами, и, словно хищник, выжидал удобного момента, чтоб наброситься на свою жертву…Ах, и красивой же она была!
Тёмнокаштановые густые волосы волнами лежали на плечах, в гармонии с ними были огромные карие глаза, бледное и вместе румяное лицо (кровь с молоком!), статная фигура и порывистые, решительные движения…
Ей было двадцать лет, и всей натурой женственности она чувствовала и понимала, чего от неё хотят. И это её волновало, несмотря на всю отвратительность его полудиких вожделений. И, может быть, повинуясь именно женскому инстинкту, она однажды отошла на опасное расстояние от лагеря, а когда пожалела об этом, было уже поздно.
Он возник перед ней, как, наверное, возникали перед женщинами когда-то в пещерном веке страстные бессловесные охотники в звериных шкурах. Никакой предварительной любовной игры: моментальное властное требование тела, и женщина была покорена…
Он замер перед ней с неким подобием улыбки на заросшем лице, на котором контрастом горели голубые, как небо, глаза. Крепко, до боли, он сжал её руку выше локтя и сильно толкнул в яму, - то ли воронку, то ли траншею… Она даже не вскрикнула, ибо поняла: сопротивляться и бежать бесполезно… Дух зловония и рычащее дыхание убивали в ней даже подобие возбуждения, - и она только терпела и покорно ждала, когда же всё это закончится…
Это кончилось довольно быстро, но с этого момента жизнь её круто изменилась: он теперь не отставал от неё ни на шаг, требовал её каждый день, приходил за ней в женский барак и уводил куда-то за лагерь, не допуская и в мыслях возражений с её стороны… Вероятно, он не совсем был дик, ибо пытался говорить о каких-то планах на будущее, обещал жениться, как только они вернутся на родину, по-своему объяснялся ей в любви. Она испытывала к нему чувство страха, но была рада тому, что другие мужчины теперь не будут преследовать её…
Как только ступили на родную землю, его арестовали. Оказалось, он имел перед Родиной большие грехи. Его увезли в Баку, несколько раз он писал ей оттуда, но затем связь оборвалась, и он канул в неизвестность – навсегда…
Она вернулась к матери, в Белоруссию, но вскоре вся семья переехала в новую, Калининградскую область России, в один год с которою родился и Валерий. К своему удивлению, очень редко в светленьком облике первенца она видела черты его отца (стёрлись в памяти черты!), и постепенно исчезла и память о голубоглазом насильнике. Но нет-нет, а случались иногда приступы ненависти к нему, неизвестно куда исчезнувшему, бросившему её на мытарства с ребёнком, на недоверие и подозрительность людей… Ведь она всё-таки вернулась из-за границы, и кое-кто об этом знал. Не один раз на неё имели посягательства господские сынки или даже сами господа, на которых она работала, но она всегда умела дать им решительный отпор, а вот против русского не устояла. Почему? Потому что, наверное, где-то в глубине души верила ему: всё-таки свой, русский, советский… Свой, ставший навсегда чужим - и порою ненавистным, проклинаемым…
Но Валерика она любила! То ли за его сиротскую долюшку, то ли потому, что он был первенцем,- но любила, и плача, и радуясь над ним. Выходить замуж не думала и не загадывала: кому она нужна с ребёнком, да ещё сомнительного происхождения, когда мужчин после войны страшно не хватает, а женщины, как безумицы, хищно хватаются за любого?..
Точно так же она думала и в те дни, когда встретила-повстречала Петю-пограничника: красавца-мужчину, ставшего несколькими годами позже её мужем. Много радостных и мучительных лет прожила она с ним! Много лет – до сегодняшнего дня…
Воспоминания матери прервались, возвращая её к яви и к боли, воспламенившейся вновь. Но мысли о матери, - не её собственные, а чьи-то иные, - плыли над землёй, оседая туманной росою и памятью вечной на травах во мгле…
(Продолжение следует)