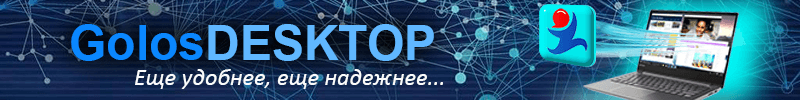… Жизнь её была настолько тяжела и наполнена ежедневным содержанием и смыслом, что ей просто некогда было думать о жизни в целом, о планах на будущее, о счастье личном…Вся она была растворена в детях, в заботах о хозяйстве и муже, а в последнее десятилетие и о своей матери, уже слабой и почти беспомощной старушке. Весь дом держался на ней, всё огромное хозяйство, вся экономика семьи. Это была гениальная хозяйка, державшая в памяти тысячи мелочей, которые касались хозяйства и быта: в любое время дня и ночи она могла сказать, где у кого лежат носки или трусы (выстиранные, заштопанные и сложенные ею), где у кого какой учебник или тетрадь, сколько дней не чистился сарай у коров – и сколько яблонь в саду засохло, какая жирность молока–и сколько и кому она должна денег (и сколько ей должны!), с кем гуляет Гарик – и кого на чердак приводит Витя, когда нужно перебрать картошку в подвале – и когда подкормить пчёл, оставленных на зиму у лесника, сколько сена за день съедают овцы – и скоро ли у них ягнение, какое настроение бывает у мужа по утрам – и как уменьшить бабушкину изжогу, почему Витя ругается с заведующей отделом культуры – и на какое пастбище гоняет какой пастух, сколько дров осталось в сарае – и когда можно зарубить курочку на мясо, на каких озёрах рыбалит муж – и что ему положить в сумку, кому поставить горчичники – и кому вскипятить молока, какая погода будет завтра (по больным ногам) – и где протекает крыша сеновала, что приготовить сегодня на обед, если денег -ни копейки, кого во сколько разбудить, накормить и собрать – и кого во сколько встретить, накормить, уложить… День за днём, круглые сутки – заботы, заботы, заботы, бескрайнее море, гигантский воз, безоглядно взваленный ею на себя! Самое удивительное было в том, что это было абсолютно естественным для неё: сделать столько и так, сколько и как не сделали бы остальные члены семьи, вместе взятые, хотя они и старались ей помогать. Она была полководец и рядовой одновременно, единоначальник и солдат в одном лице. Весь огромный семейно-хозяйственный механизм держался на ней и функционировал безотказно, - и потому все остальные этого не замечали. Но стоило ей только отлучиться куда-нибудь хотя бы на несколько дней (правда, это бывало крайне редко), все вмиг ощущали неподъёмную тяжесть её ежедневных забот и обязательств, поделённых на всех без исключения, да ещё на соседку! И когда она возвращалась, все облегчённо вздыхали и восхищались мамой, но через день уже не замечали её титанической работы, возвращаясь в привычную колею, по которой тащила их скромная белорусская женщина, мать-героиня, окончившая до войны всего пять классов (ибо уже с детства надо было работать!)… На нечастых гулянках мать любила петь – очень красиво, с душой. Танцевать не могла – из-за ног, и очень завидовала молодым и здоровым. Выпивала очень мало, и всегда смешно морщилась, приговаривая: «И как тольки они пьють эту гадость?», быстро спешила закусить чем-нибудь и перевести дух. В такие минуты, нарядно одетая, она была почти красавица, несмотря ни на какой возраст…
Но в повседневном быту она одевалась Бог знает во что: всё самое худшее, самое рубище, которое только можно было найти в доме, она надевала на себя, отвечая на возражения и возмущения детей одной лишь фразой: «А что мне, форсить возле коров?» Смотреть на неё в такой одежде было щемящее жалко, но даже и к этому домашние привыкли, замечая всю чудовищность её одежды лишь в отдельные моменты, когда в дом заходили знакомые люди или дружки кого-нибудь из детей, и становилось неловко за одежду матери. Боле того, после ухода за скотиной у матери были красные, потрескавшиеся руки, от которых пахло навозом, лицо тоже было красным, а дыхание – через рот… Рабыни, наверное, выглядели изящнее и менее измождёнными!
При всём при этом самым оптимистичным человеком в семье была она. Её можно было увидеть плачущей, чем-то возмущённой, кричащей от боли, но никогда нельзя было увидеть удручённой, пребывающей в унынии. Для неё это было противоестественным состоянием! Порою, задумываясь о её месте в жизни, о ней, как о человеке, дети бывали потрясены огромностью её сердца: ведь если оно вмещало столько любви и забот, видимых окружающим в её поступках и повседневных делах, то сколько оставалось за пределами видимого, - в бессонных ночах, в сидениях над письмами (а всю переписку в доме вела она одна!), в долгих думах во время бесконечной стирки, штопания и шитья…
Когда ели дети, она почти никогда не ела, не принимала приглашений, отвечая, что она сыта, что поела, когда готовила, но как только все наедались, она садилась доедать то, что они не съели, чем вызывала возмущение детей, но принимала его молча, и всё доедала из тарелок своих накормленных чад.
Иногда она кормила детей в очередь: она готовит что-нибудь на газовой плите (например, блины), а один ребёнок уже сидит у стола, ждёт,- и первая сковородка достаётся ему. Поев, он отходит, а его место занимает второй, и к тому времени уже подоспевает вторая сковородка…
И так этот конвейер длится довольно долго, и зачастую для неё не остаётся даже самого последнего блина, и она довольствуется тем, что обтирает жирную сковородку хлебом и съедает это, не Бог весть какое «замысловатое» блюдо…
В этой её самоотрешённости опять - таки не было ничего героического, - напротив, всё выглядело очень естественно и незаменимо, словно по-другому и быть не могло…
(Продолжение следует)